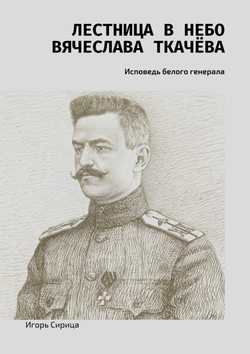Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
От автора
ОглавлениеЕсли спросить среднестатистических жителей России, с кем у них ассоциируется фамилия Ткачёв, то десять из десяти, ничтоже сумняшеся, назовут приснопамятного Александра Николаевича – бывшего губернатора Краснодарского края (2001—2015) и министра сельского хозяйства Российской Федерации (2015—2018). И только сведущие краеведы-историки, возможно, припомнят другого Ткачёва – Вячеслава Матвеевича. Кубанского казака. Первого Георгиевского кавалера среди военных летчиков Российской империи. Первого командующего Военно-воздушным флотом на театре военных действий в Первую мировую войну не из Дома Романовых. Первого автора учебника по тактике воздушного боя. Первого организатора и командира авиационного подразделения Кубани – тоже Первого – Кубанского казачьего авиационного отряда. Первого генерала в отечественной авиации, уже в другой войне – Гражданской…
Вячеслав Матвеевич Ткачёв прожил удивительную, долгую жизнь, наполненную блестящими триумфами и тяжелыми неудачами, познал радость побед и горечь утрат. Судите сами: он появился на свет в эпоху Александра III, а завершил свой жизненный путь уже при Брежневе. И только в «лихие 90-е», при Ельцине, был реабилитирован. Посмертно…
Ткачёву посчастливилось родиться в 1885 году в станице Келермесской Майкопского отдела Кубанской области в семье потомственных казаков-линейцев, чей род велся, по некоторым данным, от Павла Ткачёва, стоявшего у истоков создания Хоперского полка, по старшинству которого с 1696 года берет свое начало история Кубанского казачьего войска.
Получив домашнее начальное образование, Слава Ткачёв последовательно окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус (1896—1904) и Константиновское артиллерийское училище в Петербурге (1904—1906), был произведен в хорунжие и направлен на службу в Закавказье, где служил на различных должностях в Кубанской казачьей артиллерии (1906—1910), дослужившись до сотника. Неожиданно для всех, он принимает решение перебраться в Одесский кадетский корпус офицером-воспитателем и делает там первые шаги на педагогическом поприще (1910—1912).
Именно в Одессе Ткачёв на всю жизнь влюбился в авиацию и остался в ней до последних своих дней. Окончив «без отрыва от производства» авиашколу Одесского аэроклуба и, получив пилотское удостоверение (1911), он покидает кадетский корпус и откомандировывается в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота в Севастополе, по окончании которой становится военным летчиком (1912). С этого момента вся его жизнь связана с военной авиацией.
В описываемый период в России осуществляется процесс организационно-штатного формирования авиачастей и подготовки летных кадров, впервые проводятся дальние перелеты, в которых принимает участие и Ткачёв: групповой – Киев-Остер-Нежин-Киев (вместе со своим другом по кадетскому корпусу П. Н. Нестеровым, а также М. Г. Передковым) и одиночный – Киев-Екатеринодар (1913). Оба перелета были замечены не только в авиационных кругах, но и нашли восторженные отклики в прессе. Примечательно, что в ходе одиночного перелета кубанский казак был произведен в подъесаулы.
После завершения мероприятий по формированию и комплектованию авиачастей, Ткачёв назначается начальником ХХ корпусного авиаотряда (1914), во главе которого с началом Первой мировой войны отправляется на фронт и принимает деятельное участие в боевых действиях, осуществляя на первоначальном этапе, главным образом, воздушные разведки. За одну из них, проведенную в экстремальной ситуации и предотвратившую окружение нашего армейского соединения на одном из участков Юго-Западного фронта, а в конечном итоге способствовавшую поражению Австро-Венгрии в Галицийской битве, Ткачёв был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (1914). Командующий русской авиацией на театре военных действий великий князь Александр Михайлович (Романов) в этой связи направил телеграмму наказному атаману Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанту М. П. Бабычу, в которой, в частности, отметил, что Ткачёв «эту высшую военную награду заслужил за свои смелые разведки, пренебрегая своей жизнью и думая только об исполнении долга перед Царем и Родиной. Он первым из наших доблестных орлов получил это высшее отличие. Душевно радуюсь сообщить об этом славному Кубанскому казачьему войску, сыны которого не только на земле, но и в воздухе покрывают себя неувядаемой славой». Характерно, что в начале 1960-х годов авторитетное британское авиационное издательство «Harleyford» в своем масштабном труде «Reconnaissance & bomber aircraft of the 1914—1918 war» («Разведывательная и бомбардировочная авиация войны 1914—1918 годов») отнесло Ткачёва к числу выдающихся русских военных летчиков за его «блестящие разведывательные полеты».
Следует сказать, что великий князь Александр Михайлович еще в Одессе приметил Ткачёва, как бесстрашного летчика, и в ходе войны тот продолжал оставаться в поле его зрения. Не без содействия великого князя и объективной оценки высокого профессионализма Ткачёва, он, уже будучи есаулом (1915), назначается Инспектором авиации армий Юго-Западного фронта (1916) и тогда же награждается Георгиевским оружием за июньские разведки текущего года и производится в войсковые старшины, а после Февральской революции и последующей отставки со своего поста великого князя Александра Михайловича, Ткачёв назначается начальником Полевого управления авиации и воздухоплавания при Штабе Верховного главнокомандующего, т.е. главой Военно-воздушного флота России, оставаясь на этом посту в период с июня по ноябрь 1917 года, и производится в полковники «за боевое отличие».
Накануне прибытия в Ставку вновь назначенного большевиками Верховного Главнокомандующего прапорщика Н. В. Крыленко, Ткачёв, категорически не признавший новую власть, покидает Могилев – его путь лежит на родную Кубань, где, после многочисленный злоключений, он в Екатеринодаре с середины декабря 1918 года приступает к формированию 1-го Кубанского казачьего авиационного отряда. Весной 1919 года кубанские летчики во главе с Ткачёвым направляются на фронт в распоряжение Главнокомандующего Кавказской армии Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля, который своим приказом создает ударную авиагруппу во главе с В. М. Ткачевым, в мае 1919 года произведенным в генерал-майоры. В ее состав, помимо 1-го Кубанского авиаотряда, вошли 4-й Донской самолетный отряд из Управления авиации Донской армии и звено «В» авиационного дивизиона №47 Royal Air Force (Королевских воздушных сил Великобритании), а позднее – и звено «С». В официальной документации ВСЮР Ткачёв именуется как «командующий авиацией при Кавказской армии» и за успешные воздушные бои против красных летчиков, а также поддержку наземных сил, он и его летчики неоднократно отмечаются в приказах Врангеля по армии.
Уже будучи генералом, Ткачёв не отсиживался на аэродроме, а продолжал боевую летную работу, подавая пример своим летчикам. 30 мая 1919 года в окрестностях ст. Бекетово на подступах к Царицыну, в ходе воздушной разведки, Ткачёв получил пулевое ранение. После выздоровления, в июле он вернулся в строй, но уже в начале сентября врачебной комиссией был отправлен на лечение из-за болезни. Однако не в его характере было отлеживаться на больничной койке. 28 ноября 1919 года Ткачёва назначают членом Кубанского краевого правительства по Ведомству внутренних дел, т.е. министром внутренних дел Кубани, и он мобилизует все подведомственные ему силы и средства на борьбу с уголовной преступностью и охрану общественного порядка как в Екатеринодаре, так и по всему региону. Между тем, к середине февраля 1920 года ситуация по всем фронтам сложилась критическая, и Ткачёв снова призывается к командованию вновь созданной «Авиагруппы для района Тихорецкая—Торговая», но фактически авиагруппа не успела приступить к выполнению задач: 4 марта части Красной Армии заняли Екатеринодар.
После отступления в Новороссийск, последующей эвакуации в Крым, оставления генералом А. И. Деникиным поста Главкома ВСЮР и назначением новым Главкомом барона Врангеля, последний утверждает Ткачёва 1 апреля 1920 года начальником Управления авиации ВСЮР (28 апреля ВСЮР переименовывается в Русскую Армию). В своем обращении к летчикам белого Крыма Ткачёв заявил: «В тяжелое время и в тяжелой обстановке волею судьбы я поставлен во главе остатков некогда великой русской авиации». Вплоть до осени 1920 года авиация Русской Армии противостояла Красному Военно-воздушному флоту, а Врангель неоднократно отмечал роль Ткачёва, в том числе и в июньском разгроме красного конного корпуса Жлобы. Одним из первых Ткачёв был награжден орденом Святителя Николая Чудотворца 2-й степени.
После исхода Русской Армии из Крыма в Константинополь в ноябре 1920 года, Ткачёв обратился к своим летчикам, отдав последний приказ о возможной службе в авиации таких государств, которые не будут воевать с Россией, «а таким государством является только Югославия». С ним туда перебрались более 100 военных летчиков, летчиков-наблюдателей, авиатехников и мотористов. В эмиграции Ткачёв служил по контракту консультантом в инспекции Военно-воздушных сил Югославии, председательствовал в «Обществе русских офицеров Российского Военного воздушного флота» для оказания взаимопомощи военным летчикам, был редактором авиационного журнала «Наша стихия», участвовал в издании «Авиационного бюллетеня», писал статьи в югославские авиационные журналы, издал курс лекций «Тактика воздушных сил» (Белград, 1943), принимал участие в организации молодежно-патриотического движения «Русское Сокольство». В сентябре 1941 г. Ткачёв был назначен походным атаманом Кубанского казачьего войска и участвовал в формировании Русского Корпуса, инициированного фашистской Германией для борьбы с югославскими партизанами, однако сам никаких реальных шагов в его деятельности не предпринимал, и уже с 1942 года, окончательно отказавшись от сотрудничества с Русским Корпусом, работал начальником внешкольного воспитания русской молодежи в Белградских гимназиях.
После освобождения Красной армией Югославии осенью 1944 года, Ткачев добровольно явился к командованию, не чувствуя за собой никакой вины. Он был переправлен в Москву и 14 января 1945 года подвергся аресту Главным управлением военной контрразведки «СМЕРШ». Следствие было не долгим: 4 августа того же года по постановлению Особого совещания при МГБ СССР на основании ст. 58 пп. 4, 8, 11 УК РСФСР Ткачёв был приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет. Отбывал наказание в Сиблаге (Кемеровская область), Ангарлаге (Иркутская область) и Потьме (Мордовская АССР), откуда был освобожден 10 февраля 1955 года.
Тяжело больному 70-летнему генералу разрешили жить в Краснодаре, где его приютила племянница, а позднее городские власти выделили полуподвальное, плохо отапливаемое помещение (квартирой это трудно назвать), с удобствами во дворе, по ул. Шаумяна, 82. Один из его боевых друзей-летчиков, узнав о его возвращении из ГУЛАГа, писал своему бывшему командиру: «Мой дорогой и горячо любимый, одинокий Кубанский пленник и Шаумянский узник…». Влача полунищенское, жалкое существование, добиваясь назначения хотя бы маломальской пенсии (в 1957 году он всё-таки стал получать 24 рубля как инвалид второй группы, а через пять лет – аж 42 рубля), Ткачёв был вынужден на восьмом десятке лет работать сначала диспетчером уличного освещения, а потом переплетчиком в артели инвалидов. А после работы он до глубокой ночи с упоением предавался написанию мемуаров: еще в заключении он делал черновые наброски воспоминаний о своем друге и сослуживце П. Н. Нестерове, истории русской военной авиации и собственной жизни («Исповедь»), а после освобождения поставил перед собой целью их издать. Представляется, что выполнение этой задачи чудесным образом продлило жизнь Ткачёву еще на 10 лет. В 1961 году Краснодарское книжное издательство издало документальную повесть о Нестерове «Русский сокол», получившую широкие отклики – читатели со всех уголков Советского Союза буквально завалили письмами издательство, пересылавшее их Ткачёву. Мемуары «Мои воспоминания о далеком прошлом русской военной авиации» (во второй редакции – «Крылья России») при жизни Ткачёва не были изданы – группа советских генералов-летчиков, позиционирующих себя бóльшими специалистами по истории авиации, нежели Ткачёв, заблокировало издание этой книги, а Воениздат нашел формальный повод – отсутствие бумаги (?!). Наконец, «Исповедь» не была завершена в связи со смертью мемуариста в марте 1965 года…
На склоне лет Ткачёв с горечью писал: «Как жаль, что жизнь моя и физические силы покатились стремительно вниз, и я уже не могу написать ряд вдохновительных статей, посвященных этому далекому красивому прошлому – эпосу авиации. Не смогу это, по-видимому, делать, пока не расплачусь со всеми своими долгами. Из них два уже оплачены: с „Русским соколом“ я поставил памятник своему другу и нашему народному герою Петру Николаевичу Нестерову, а „Мои воспоминания о далеком прошлом русской военной авиации“ – это мой памятник нашим славным героям воздуха за период с 1910 по 1917 годы (рукопись рассматривает Военное издательство в Москве). Моя последняя работа, которую от меня ждут – это мои личные воспоминания о всей моей жизни, вплоть до сегодняшнего дня. К этому последнему труду я только приступил (написал самую легкую – первую главу „Раннее детство“, а их всего будет больше десяти) и, чтобы его закончить, надо будет потратить, по крайней мере, еще два-три года, а хватит ли на это сил?»
На основе личного фонда В. М. Ткачёва, хранящегося в Государственном архиве Краснодарского края (89 единиц хранения общим объемом более 8 тыс. листов) и вобравшего в себя статьи, рукописи, черновики, заметки, обширную переписку, в том числе ранее никогда не публиковавшиеся, автор этих строк сделал попытку восполнить замысел Летчика и Человека, Кубанского Казака и Генерала, который он не успел воплотить в жизнь…
Очень верно заметила доктор исторических наук, профессор Е. С. Синявская: «Чем дальше отстоит от нас крупное историческое событие, тем ценнее свидетельства его современников, отразившие неотразимый дух, характер и атмосферу эпохи. А если их автор, оказавшийся в самом центре общественных потрясений, – человек высокообразованный, литературно одаренный, тонко чувствующий, склонный к саморефлексии, а главное – способный на глубокое осмысление происходящих вокруг событий, анализ их причин и возможных последствий, – это источник поистине уникальный». Эти слова всецело можно отнести к воспоминаниям Ткачёва, которые являются нарративным источником, историческая действительность в котором отражена через призму личных наблюдений мемуариста.
Книга, которую вы держите в руках, не в полной мере вписывается в традиционные жанровые каноны мемуаров или биографии. И вот почему. Задуманная Ткачёвым «Исповедь» не была им завершена: он составил только подробный её план и успел написать лишь первую главу. Взяв за основу неопубликованные архивные источники и придерживаясь намеченного плана «Исповеди» (несколько расширив его хронологические рамки), автор попытался претворить в жизнь замысел Ткачёва. При этом использовались и многочисленные опубликованные источники: сборники документов, газеты и журналы того времени, справочные издания, воспоминания современников, научные монографии, исследования и статьи, а также иные литературные источники.
Нелишне сказать, что рукописные источники создавались Ткачёвым, главным образом, в период 1955—1965 годов, то есть в возрасте от 70 до 79 лет. Естественно, в них закрались неизбежные хронологические ошибки памяти и ретроспективные наслоения. Но, описывая события периода Первой мировой войны, свои впечатления Ткачёв подкрепляет документами из Центрального государственного военно-исторического архива (ЦГВИА), ныне – Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА): приказами, циркулярами и проч. Как и любому мемуаристу, Ткачёву присущи личные пристрастия, симпатии и антипатии, некоторый субъективизм при описании тех или иных событий, свидетелем которых он был. То же самое касается и его характеристик многочисленных персоналий, в первую очередь, из среды военной авиации. При этом необходимо иметь в виду специфические черты характера и личностные качества Ткачёва – здесь соседствуют патриотизм и сентиментальность, мужество и безысходность, педантичность и отзывчивость, милосердие и ненависть, и т. д. Наконец, следует принимать во внимание и случавшиеся перепады в состоянии здоровья уже довольно пожилого человека. И всё это – на фоне реалий советской повседневной жизни и неустроенности мемуариста в социально-бытовом плане. В этой связи изменения в настроении Ткачёва, присущие людям его возрастной группы, можно проследить в его текстах.
При подготовке настоящего издания стиль и правописание оригинала сохранены. Для визуального восприятия тексты Ткачёва выделены курсивом. Все даты до октября 1920 года указаны по старому стилю, после – по новому стилю. Цитаты воспроизводятся по современным правилам орфографии и пунктуации, явные ошибки в машинописных и рукописных текстах исправлены без оговорок. Все купюры отмечены в тексте отточием, заключенным в квадратные скобки […]. В конце издания приведен аннотированный именной указатель с краткими биографическими сведениями всех лиц, упоминаемых в книге, а также указывается список использованных источников и литературы.
***
Автор выражает глубокую признательность за оказанную информационную помощь в ходе работы над этой книгой Андрею Ступаченко (Краснодар), Виталию Гусеву (Волгоград), Сергею Василенко (Подольск), Ирине Словохотовой (Уфа), Алексею Лашкову (Москва), Алексею Литвину (Москва), Александру Питинову (Санкт-Петербург), Анжеле Шиповац (Невесине, Республика Сербская, Босния и Герцоговина), Софи Нерсесян-Руксель (Париж, Франция), Ростиславу Владимировичу Полчанинову (Нью-Йорк, США), а также особо выражает благодарность Александру Божко (Санкт-Петербург) за всесторонние консультации по проблемам истории авиации, предоставление многочисленных материалов по теме и ценные советы.
Бесконечно признателен за поддержку и понимание доктору юридических наук, доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации Леониду Павловичу Рассказову (Краснодар) и доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Кубани Юрию Михайловичу Павлову (Краснодар).
Искренне благодарен сотрудникам Государственного архива Краснодарского края (ГАКК), без действенной помощи которых эта книга не состоялась бы: руководитель – Станислав Григорьевич Темиров, заместитель руководителя – Любовь Александровна Соколова, главные специалисты отдела ИПС и использования архивных документов – Светлана Анатольевна Зайцева и Кристина Николаевна Шумакова, ведущий специалист того же отдела Александр Михайлович Галич.
Наконец, автор признателен родным и близким за их безграничное терпение.