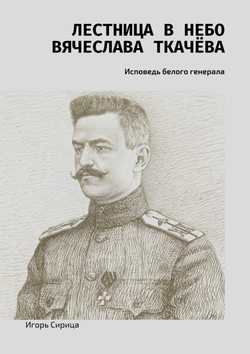Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 4.
Одесса: 1910—1912
ОглавлениеС разрешения военного министра В. А. Сухомлинова, 6 сентября 1910 г. Ткачёв был прикомандирован к Одесскому кадетскому корпусу «для занятия должности офицера-воспитателя» и отправился «к новому месту служения, находясь в кратковременном отпуску в гор. Одессе»100. Одесский кадетский корпус был учрежден 16 апреля 1899 г. и дислоцировался в переделанных Собанских казармах, где ранее размещалось Одесское пехотное юнкерское училище. Изначально здание являлось собственностью графа Собанского, после его смерти перешло в казну. В 1907 г. при корпусе были созданы историко-педагогический отдел и музей. При отделе работала психологическая лаборатория, где кадеты и офицеры-воспитатели проводили исследования. К августу 1912 г. Одесский кадетский корпус уже окончило 429 кадет101.
В 1910 г. я сменил свою службу в конной артиллерии на должность воспитателя в кадетском корпусе и уже в конце августа выехал в Одессу. Здесь в один из солнечных осенних дней мне посчастливилось быть свидетелем победы человека над воздушной стихией. Но что это была за победа?!
Примерно в двухстах метрах от заполненных до отказа трибун одесского ипподрома стояло что-то загадочное, непонятное для меня – то ли это был огромный курятник, или какая-то этажерка? На ее нижней полке сидел в кожаном костюме человек. А за его спиной – позади этажерки – кто-то что-то старательно накручивал… Эти непонятные для публики занятия «победителей воздуха» продолжались более чем полчаса. Наконец, послышался «пшик!» и за спиной человека что-то с треском закрутилось… Но вот треск прекратился и снова длительное, старательное накручивание позади этажерки…
– Пробует, налаживает мотор, – объяснил какой-то знаток из публики.
Это «налаживание мотора» повторялось и длилось около часа, и терпение публики подходило уже к концу…
Наконец, этажерка (или как ее назвал кто-то из публики – «фарман») тронулась и, отделившись от земли, пролетела мимо трибун на высоте двух-трех метров и опустилась на землю. Так вот как летает знаменитый одесский спортсмен – победитель на автомобильных состязаниях, как его называют Сережа Уточкин?! А я слышал когда-то, что точно такой полет совершил в 1903 г., т.е. семь лет тому назад в Америке, Райт. Быстро же шагает наша русская авиация!..
«Ради такого сомнительного вида спорта рисковать целостью ног, а может быть и головой? Нет! – подумал я. – Игра не стоит свеч!» И уйдя в интересы своей службы, я больше не думал об авиации102.
Ткачёв был разочарован и раздосадован: не так он представлял полеты на аэроплане, не таким ему виделось покорение человеком воздушного пространства. Он с головой окунулся в повседневную жизнь кадет, которую хорошо знал, отбросив мысли об авиации. Ткачёв относился к своим подопечным с любовью и уважением, они платили ему тем же, и уже спустя год, летом 1911 г., корпусное начальство разрешило ему выехать с кадетами на экскурсию за границу, вероятно, в Париж, поскольку позднее он вспоминал о своих ощущениях от Эйфелевой башни. Благо, у кадетов были летние каникулы, и первую их половину, более месяца (с 3 июня по 5 июля) они отдыхали, многие впервые, впрочем, как и их наставник, за границей под чутким надзором офицера-воспитателя Ткачёва103. А по возвращении в родные пенаты произошел случай, стремительно и навсегда перевернувший всю его жизнь…
Во второй половине лета 1911 г. я жил с кадетами, не уехавшими на летние каникулы домой, в лагере. Как-то возвращаясь с прогулки на Большой Фонтан через стрельбищное поле, мы услышали какой-то звук, напоминающий мотор автомобиля. Он был как будто где-то близко, а автомобиля нигде не было видно… Меня что-то толкнуло взглянуть вверх и… о чудо! Над нашими головами, на высоте около 500 метров, плавно парил, озаренный лучами заходящего солнца, золотой аэроплан.
«Какая красота! – подумал я. – Ведь и этот вроде Уточкиной этажерки, но на такой высоте он выглядит красавцем!»
Мотор затих.
– Смотрите, смотрите, господин сотник! – кричали возбужденные кадеты. – Он опускается!
Аэроплан стал медленно снижаться, приближаться к беговому полю.
«Значит, он может лететь и без мотора? Ах, какая же это прелесть! – подумал я с восторгом. – Вот это уж действительно полет! Невольно позавидуешь пилоту!.. Вот теперь, после такого чудесного, захватывающего зрелища, постараюсь и я во что бы то ни стало полететь!..»
Не прошло и недели после взбудоражившего меня и моих кадет зрелища – полета «золотого» аэроплана. Я, как-то сидя в лагерном бараке и просматривая «Одесские Новости», натолкнулся на интересную и знаменательнейшую для меня заметку: «В Одессе открывается пилотная школа, куда офицеры Одесского гарнизона принимаются бесплатно»104.
Школа по подготовке пилотов возникла на базе одного из старейших в России спортивного общества воздухоплавания «Одесскiй Аэро-Клубъ», образованного в начале 1908 г. На заседании членов общества 11 марта того же года было принято решение просить первого президента аэроклуба барона А. В. Каульбарса «повергнуть к стопам Государя Императора верноподданнические чувства беспредельной любви и преданности с выражением готовности всеми силами и средствами быть полезными, в случае войны, дорогому отечеству и армии». Задачи аэроклуба состояли в «возможно широкой популяризации воздухоплавания», с целью реализации которых в год основания было осуществлено 13 полетов на воздушном шаре, в которых приняло участие 27 аэронавтов (3 женщин, 10 лиц разных профессий и 14 военнослужащих).
В ноябре 1908 г. членами Одесского аэроклуба было собрано 12 тыс. рублей для приобретения аэроплана на фабрике Вуазена во Франции, который и был доставлен в Одессу в марте 1909 г. Полеты на воздушных шарах были завершены, поскольку «ход событий на Западе в этой отрасли заставил напрячь все внимание и денежные средства на приобретение дорогостоящих аэропланов», и уже осенью во Франции были заказаны два аэроплана Блерио и один «аппарат типа Фарман».
10 февраля 1910 г. президентом Одесского аэроклуба был избран А. А. Анатра, который 15 июля «выразил желание организовать Школу военных летчиков», а 27 ноября того же года на общем собрании членов аэроклуба было постановлено, «в дополнение к военно-авиационному классу, открыть при Аэро-Клубе класс авиации для всех желающих изучать воздухоплавательное дело, за установленную плату, оставив обучение офицеров всех родов войск бесплатным». С мая 1911 г. начались практические занятия «по регулированию и взлетам», однако «они носили характер дилетантский, так как не было опытного инструктора». В июне инструктором был приглашен летчик В. Н. Хиони, «изучивший полеты заграницей; выбор оказался чрезвычайно удачным: Хиони оказался прекрасным летчиком и талантливым руководителем»105.
В пилотской школе Ткачёв с ходу, со свойственной ему прямотой и без обиняков, заявил о своем желании стать пилотом.
С шести лет сел на коня, а вот теперь хотел бы сесть на вашу этажерку!106
Ему рассказали об условиях приема и о перспективе стать военным летчиком: в России зарождалась военная авиация и в ноябре 1910 г. в Севастополе была открыта военно-авиационная школа.
Теперь с поступлением в открывавшуюся пилотскую школу явилась передо мною не только возможность «полетать» и стать пилотом, но и наметилась перспектива участия в создании чего-то еще небывалого, какого-то нового рода оружия. С такой окрыленной мечтой я возвращался в корпус. «А что, если директор корпуса не разрешит мне поступить в эту школу?» – пришла мне в голову неприятная мысль. […] Но наш директор, генерал Радкевич, был когда-то кавалеристом-спортсменом, и он с улыбкой одобрения заявил:
– Пожалуйста, сотник, летайте! Желаю вам успеха107.
И Ткачёв начал постигать азы пилотного мастерства.
Пилотская школа (с офицерским отделением) стала работать с 1 августа 1911 г., когда я начал учиться летать108.
Главным административным лицом школы был секретарь Аэроклуба Маковецкий. А номинальным возглавителем офицерской группы учеников – подполковник Морского батальона Стаматьев. На аэродром он не показывался, и единственная польза от этого возглавления заключалась в том, что школу обслуживали три солдата этого батальона. Методико-педагогическая часть была очень примитивна: Хиони учился на своих учениках инструкторству, он летал раньше на «Антуанетте»109 и теперь начинал только свыкаться с «Фарманом». Обучение полетам было немым, без всяких объяснений – все надо было схватывать инстинктом, собственными ощущениями. Теоретическая часть (знакомство с аэродинамикой, с конструкцией аэропланов и моторов, с теорией полета) совершенно отсутствовала, то ли вследствие слабого знакомства с этими вопросами самих руководителей, а быть может, это считалось «профессиональной тайной»? Все надо было где-то искать и черпать самим. На мое счастье, ряд статей по этим вопросам в журнале «Воздухоплаватель» дали мне первоначальные знания. […] Однако, несмотря на эту примитивщину, Одесская авиационная школа в течение последних месяцев 1911 года выпустила девять летчиков, выдав им специальные «Бреве» (удостоверения) на звание пилота-авиатора, полученные от Всероссийского аэроклуба, имевшие международную силу. Экзамены держались по новым требованиям ФАИ (федерассион-авиассион-интернационал) – Международной авиационной федерации, куда с 1909 года входил и наш Всероссийский аэроклуб.
Эти требования заключались в следующем:
– Описать 10 восьмерок (по пяти за один раз) вокруг двух пилонов, находящихся на расстоянии 300—500 метров друг от друга.
– При каждом испытании спуск должен произойти:
а) с мотором, остановленным в воздухе не позднее прикосновения аэроплана с землей;
б) в расстоянии не больше 50 метров от заранее намеченной точки.
Каждый спуск должен быть совершен без повреждения аэроплана110.
В то время еще не существовало специальной авиационной униформы для летчиков и все офицеры, обучающиеся в школе, носили обмундирование тех частей и родов войск, в которых служили. Соответственно, Ткачев повседневно облачался и летал в обмундировании сотника 5-й Кубанской казачьей батареи111. Это выглядело весьма экзотично: стройный, усатый казак в папахе, бешмете и черкеске, с шашкой и кинжалом на… аэроплане! Правда, прежде чем сесть в пилотское кресло, Ткачёв «разоружался», дабы шашка и кинжал не мешали в управлении аэропланом.
Я летал часто в черкеске: хотел показать, что и «дикий Кавказ» не лишен «новой техники»112.
В период обучения с 1 августа по 21 декабря 1911 г. Ткачёв совершил 65 полетов, в том числе 31 «ученический» и 34 самостоятельных; время его пребывания в воздухе составило 5 час. 54 мин. 40 сек., в том числе в полетах «ученических» – 2 час. 33 мин. 33 сек. и самостоятельных – 3 час. 21 мин. 7 сек.113
Обучение для всех офицеров начиналось с «пробных полетов», то есть с инструктором В. Н. Хиони, на «Фармане».
Каждый ученик находился в «пробном полете» не больше пяти минут, но этих пяти минут было вполне достаточно, чтобы понять, кто и как чувствовал себя после «пробы». У одного бледное лицо, у другого растерянно бегающие глаза, у третьего дрожь в голосе… Все это о чем-то говорило.
Настал и мой черед занять место за спиной инструктора.
Должен сказать, что во время полета я не ощутил той остроты и того страха, к которым так напряженно готовил себя. Скорость не произвела на меня особого эффекта, может быть потому, что мне не раз приходилось мчаться на добром скакуне и чувствовать, как бьет в лицо резкая струя воздуха. Высота полета была небольшая, а от бездны меня отделял своим телом инструктор. К тому же, я так крепко держался за стойку, что оторвать меня от нее было бы нелегко.
Повторяю, страха не было. Было именно то, о чем мечталось: чудесный взлет, ощущение крылатости, захватывающее дух сознание того, что твое тело, словно обретя невесомость, плывет в покорившейся тебе прозрачной небесной лазури…
После этого пробного полета я твердо решил связать свою жизнь с авиацией и взялся за учение с настойчивостью человека, задавшегося целью добиться своего, во что бы то ни стало.
[…] Должен сказать, что Хиони долго и добросовестно «выдерживал» своих учеников на втором – пассажирском сидении. Поначалу он разрешал нам держаться за ручку управления и заставлял следить за тем, как он манипулирует ею сам; затем ученик получал разрешение действовать самостоятельно на руль высоты и на элероны, в это время ноги инструктора оставались на педали руля поворота. По окончании этой стадии обучения ученик попадал на пилотское место и брал на свою ответственность все рули. Хиони же усаживался позади него для контроля и чтобы определять, готов ли его питомец к самостоятельному вылету.
Когда Хиони посадил меня на переднее сиденье, я вдруг почувствовал себя вполне освоившимся с аэропланом – так было сильно влияние чувства ответственности. Волнения быстро улеглись, и первый мой почти самостоятельный полет я совершил с полной уверенностью, а главное – не испытал страха перед той пропастью, которая открывалась теперь у меня под ногами. Право, куда страшнее было смотреть вниз с верхней площадки Эйфелевой башни! По-видимому, это объяснялось тем, что там, на Эйфелевой башне, я не ощущал движения, которое здесь, на аэроплане, как бы скрадывало высоту. К тому же, на башне я был праздным созерцателем, а теперь все мои помыслы и все мое внимание были заняты делом – пилотированием аэроплана.
[…] После того, как я сел на пилотское место, мое обучение полетам пошло быстрыми темпами, и, наконец, настал тот день, когда Хиони сказал мне:
– Пожалуй, вас уже можно выпускать в самостоятельный полет. Как вы смотрите на это дело?
– Давайте попробуем, – ответил я, ощущая при этом какой-то особый душевный подъем и определенную уверенность в своих силах.
Первый самостоятельный полет я провел очень внимательно и осторожно. Теперь, когда за моей спиной уже не было Хиони, который в любую минуту мог исправить мои ошибки, я напряг всю свою нервную систему, зрение, слух и как никогда раньше испытал полное слияние с аэропланом. Он покорно подчинился моей воле, и мне казалось, что я сам превратился в крылатое существо, которое сказочно плыло в голубом воздушном океане. Полет, как и спуск на землю, прошли образцово. Так его оценил Хиони, и я ушел в тот день с аэродрома в победоносном настроении.
На следующий день я уже держался как «опытный пилот». Спокойно, самоуверенно уселся на аэроплан и поднялся в воздух. Полет прошел прекрасно. Но во время посадки получился неприятный казус. Когда аэроплан уже катился по земле, я взял небрежно ручку «на себя», подражая машинально руководителю, который таким образом обращал руль высоты как бы в воздушный тормоз. Но это он проделывал уже тогда, когда аппарат замедлял свой ход, а у меня скорость была еще значительной, и мой «Фарман» задрал кверху нос и грубо плюхнул на колеса. При осмотре оказалось, что под сиденьем пилота треснуло ребро нижней плоскости аэроплана.
Пустяковая трещина. Ее устранили очень быстро, заменив ребро новым, но она оставила в моей душе такой глубокий след, что я несколько дней буквально не находил себе места. Мне казалось, что в самой моей натуре кроется какой-то недостаток, который так и не позволит мне стать хорошим летчиком и, в конце концов, приведет меня к гибели. Один неосторожный, машинальный жест может мгновенно решить судьбу и пилота, и аэроплана. Именно такой жест я и допустил в конце второго самостоятельного полета. Хорошо, что все обошлось благополучно. А что будет в следующий раз?
Несколько дней я не появлялся на аэродроме. Старался отвлечься от этих тягостных душевных терзаний работой с кадетами в корпусе, но мысли мои снова и снова возвращались к постигшей меня неудаче. Можно было, конечно, проститься со школой пилотов, целиком посвятить дальнейшую свою жизнь сугубо «земным» делам и тем самым обезопасить себя от гибельных рисков, которыми изобилует профессия летчика. Но авиация уже слишком захватила меня – она вросла в мою душу, и мне трудно было расстаться с ней. Кроме того, я не мог поступиться чувством самолюбия и гордости. Бросить авиацию – значит признаться в своей трусости, подчиниться инстинкту самосохранения, а попросту говоря, страху…
И я снова появился на аэродроме. Все меня встретили сдержанно. Никто ни словом не обмолвился о случившемся. Я старался держаться с достоинством, хотя и чувствовал себя как провинившийся мальчишка. Хиони же тактично предложил:
– Вячеслав Матвеевич, давайте-ка я еще раз слетаю с Вами на втором месте, а там продолжайте свои самостоятельные полеты.
После этого горького урока я раз и навсегда «зарубил себе на носу», что при управлении аэропланом не должно быть ни бравирования, ни лихачества. Незаметно и быстро заглохло во мне чувство страха, и появилась прежняя уверенность, и я стал готовиться к экзамену.
Наступил сентябрь. В кадетском корпусе начались занятия. Теперь с 7 часов утра и до 6 часов вечера я, как воспитатель, должен был присутствовать в классе и наблюдать за приготовлением моими питомцами заданных уроков и кому нужно – помогать. Нелегко было согласовать эти обязанности по службе и усиленную подготовку – утренние и вечерние полеты – перед предстоящим пилотским экзаменом.
Жил я на казенной квартире в специальном городке кадетского корпуса, откуда до аэродрома было не менее трех километров. Два раза в день мне приходилось преодолевать это расстояние маршем – со скоростью шесть километров в час114.
2 ноября 1911 г. сотник Ткачёв выдержал экзамен на звание пилота-авиатора115. На следующий день газета «Одесский листок» поместила заметку об этом событии: «Вчера на аэродроме Одесского аэро-клуба состоялся второй авиационный пикник. В присутствии начальствующих лиц, президента а [эро] -к [луба] А. А. Анатра и членов совершен ряд полетов инструктора школы В. Н. Хиони и офицеров-учеников. Экзаменовавшиеся сот [ник] Ткачёв и шт [абс] -кап [итан] Шимкевич блестяще исполнили все эволюции в воздухе, требуемые для получения грамоты пилота, и были поздравлены президентом с получением «бревэ‟»116.
Ткачёв очень тепло отзывался о своем коллеге, к которому относился по-товарищески.
[…] я как-то сразу, с первых дней пребывания в школе, почувствовал симпатию к поручику Владимиру Константиновичу Шимкевичу, который производил впечатление сугубо штатского человека, по недоразумению одетого в военную форму. Он никак не походил на тех отборных со строгой выправкой фельдфебелей, взводных портупей-юнкеров, которые шли из военных училищ в полки Одесского гарнизона. Но среди нас Шимкевич отличался завидной эрудицией и умением остро и метко критиковать117.
В целом, к концу 1911 г. Одесская пилотская школа выпустила 7 дипломированных летчиков, включая 5 офицеров. Кроме того, были подготовлены к сдаче экзамена еще 4 человека, «но наступившие ненастные погоды заставили перенести испытания на следующий год»118.
Мое «бреве» было под №65 (решение экзаменационной комиссии от 2 ноября 1911 года). […] Процедура экзамена, обставленная со всеми формальностями и строгостью (в комиссию входили представители военного ведомства, от города и аэроклуба), задержала меня на аэродроме дольше, чем обычно, и я впервые опоздал на вечерние занятия в кадетском корпусе минут на десять.
Вхожу в «роту» (зал, где кадеты проводили внеклассные занятия). Во всех классах тишина, а в моем – шум, громкие разговоры.
«Такого беспорядка у меня еще никогда не было, – подумал я с досадой. – Нечего сказать: хороший пример подаю я своим воспитанникам!»
Переступаю порог своего класса.
– Встать, смирно! – командует дежурный кадет. Став в двух шагах от меня и, приняв стойку «смирно», он начинает рапортовать.
Я тоже принял положение «смирно» и, слушая рапорт, внимательно смотрю на 30 моих кадетов, вытянувшихся у своих парт. Но странно, сегодня ни на одном лице не видно обычной строгости и сосредоточенности. У моих питомцев что-то вроде сдержанных улыбок.
Рапорт окончен. Я поворачиваюсь лицом к классной доске, где должны быть записаны уроки с заданием на следующий день и… вместо записей вижу десять восьмерок, расписанных мелом во всю доску…
Нарушение порядка! Явное нарушение дисциплины!! Вина дежурного налицо! По существовавшим правилам (в духе дисциплинарного устава в войсках – «не оставлять проступка без взыскания»), я должен был обрушиться на виноватого… Но интуиция мне подсказала, что это не злостный проступок, а своеобразная дань внимания и уважения со стороны моих питомцев в связи с тем, что я только что успешно сдал ответственный экзамен и стал пилотом.
Я молча обернулся к классу и не мог сдержать улыбки. Дисциплина была окончательно нарушена. Я почувствовал, что в этот момент протянулись какие-то незримые интимные нити между мной и кадетами. Их физиономии сияли. Даже обычно угрюмые лица двух кадетов-сербов Путника и Симича повеселели. А Леонард – первый ученик в моем классе – произнес громко и торжественно:
– Поздравляем Вас, господин сотник! Теперь Вы с Вашим «бреве» будете иметь право летать не только в России, но и за границей!
– Спасибо Вам, спасибо, господа! – промолвил я, растроганный столь искренним и сердечным вниманием своих питомцев…119
Минуло более полувека. Ткачёв жил в Краснодаре. За год до ухода из жизни он получил неожиданное письмо от своей племянницы Ольги, которая описывала свое туристическое путешествие по Болгарии зимой 1964 года. Во время поездки она показывала болгарским товарищам, с которыми познакомилась в ходе экскурсий по Софии, фотографии Советского Союза: Крым, Кавказ, Грузия, Краснодар. На одной из них она была запечатлена вместе с дядей. Как писала Ольга, эта фотография «вдруг произвела на одного нашего знакомого странное впечатление. Он как увидел, остолбенел и замычал. Я удивилась, говорю, это мой дядя Славушка, знаменитый и чудесный дядя. А он говорит, так это генерал Ткачёв! Я говорю, да, откуда Вы его знаете, ведь он не жил в Софии, а в Югославии? Тогда он мне рассказал историю, как он был Вашим учеником в Одессе, еще давно-давно. Говорил, что у Вас был брат. Одним словом, он очень и очень восхвалял Вас, искренне обрадовался, что Вы живы и здоровы. Он очень просил передать самый искренний и сердечный привет, если Вы его, конечно, помните. Зовут его сейчас Цицианов Александр Давидович (а раньше, вероятно, Цициашвили, так как он грузин), очень милый и симпатичный человек, исключительно приветливый, добрый и сердечный»120.
Ткачёв читал письмо и по его щекам катились слезы. Он, конечно же, помнил всех своих воспитанников по Одесскому кадетскому корпусу…
28 ноября 1911 г. на заседании №83 Совета Императорского Всероссийского Авиационного Клуба (ИВАК) секретарь В. В. Корн доложил членам Совета «о неимении со стороны Спортивного Комитета препятствий к выдаче пилотских дипломов Ткачёву и Шимкевичу». В этой связи Совет постановил «выдать означенным лицам дипломы на звание пилотов-авиаторов»121.
С получением пилотского «бреве», в сущности, мое обучение формально закончилось, и школе оставалось лишь за услугу государству реализовать предусмотренные за меня законом 500 рублей. Однако нам, офицерам, была предоставлена возможность продолжать свою тренировку и совершенствование в полетах и дальше. За что я до сих пор ношу в своем сердце горячую благодарность А. А. Анатра и администрации школы. Если наше первоначальное обучение в значительной степени шло самоучкой, то уж, конечно, тренировочные полеты проводились почти совершенно самостоятельно122.
***
К весне 1912 г. Одесская авиашкола расширилась и имела уже три аэроплана – два «Фармана IV» и один «Антуанетта», были построены и оборудованы деревянные ангары, «все шатания и дилетантское отношение к делу, какие бывают при организации всякого нового дела, были подведены к одному знаменателю и весь внутренний распорядок получил вполне правильное течение». Вот тогда и было решено устроить торжественное открытие авиационной школы Одесского аэроклуба. На это торжество был приглашен великий князь Александр Михайлович. 20 мая 1912 г. великий князь «изволил прибыть» в Одессу на яхте «Алмаз». В его присутствии состоялось освещение ангаров и поднятие флага. За завтраком Его Императорское Высочество отметил, что, по его мнению, «Одесский Аэро-Клуб, единственный в России, ставший сразу на правильный путь»123.
После акта освещения школы и по окончании роскошного обеда (в одном из лучших одесских ресторанов, где на столах стояли не только «заморские напитки», но и вино в бутылках, пролежавших десятки лет зарытыми в подвалах Анатра) высокие гости, сопровождаемые членами аэроклуба, появились на аэродроме.
Предстояли полеты офицеров-летчиков, окончивших Одесскую авиационную школу, таких было налицо только два – штабс-капитан Греков и сотник Ткачёв.
Первым взлетел на новеньком «Фармане» Греков. Он поднялся в воздух и, летя на небольшой высоте в направлении Молдаванки (окраина Одессы), скрылся с глаз зрителей аэродрома. Что им руководило, какую он преследовал цель? Никто не мог понять. И получился конфуз перед гостями – аэроклубовцы волновались…
– Куда его черт понес? – с раздражением ворчал Маковецкий.
– Он вечно выдумает что-то несуразное! – шептал Хиони.
От группы, окружавшей гостей, отделился Анатра и Стаматьев.
– Надо сейчас же готовить для взлета другой «Фарман», – с раздражением произнес председатель аэроклуба. – Не будем же мы дожидаться возвращения Грекова.
Стаматьев приказал своим солдатам выводить на старт старенький «Фарман» и, подойдя ко мне, сказал:
– Ну, сотник, теперь очередь за вами – летите, но только никаких ваших трюков и фокусов! Это в присутствии его высочества делать не следует.
– Я никаких фокусов никогда и не делал, а летал так, как должен летать каждый военный летчик, – ответил я Стаматьеву.
Он отошел, а пока я снимал шашку и кинжал, заправлял полы своей парадной черкески за пояс и надевал каску, ко мне подошел Анатра.
– Вячеслав Матвеевич, делайте все решительно, что вы умеете: все ваши виражи, планирование. Покажите великому князю, каких офицеров-летчиков выпускает Одесская авиационная школа. Я верю – вы не ударите лицом в грязь!
«Вот так курьез, – подумал я. – Два моих старших школьных начальника – председатель аэроклуба (хозяин школы) и подполковник, возглавляющий офицерскую группу – и два разных требования… А от Стаматьева я не ожидал – первый раз появился на аэродроме (ради парада?!) и сразу же делает непорядочность в отношении школы: чтобы сгладить конфузное впечатление от полета офицера своего батальона Грекова, он толкает и меня на какой-то «серенький‟, как он говорит «без фокусов‟, полет».
– Сделаю так, как надо и как умею! – решил я. – Вот только обидно, что приходится лететь на нашем «старичке», а у него невероятно провисает хвост.
Я взлетел и, делая широкие круги, иногда с крутыми виражами, над зрителями аэродрома, примерно через 15 минут поднялся на высоту 500 метров. Потом выключил мотор и стал планировать в пологой спирали – то на одно крыло, то на другое… и сел почти к ногам высокого гостя.
Я быстро соскочил с сиденья аэроплана, опустил полы черкески и, вытянувшись, взял под козырек.
Ко мне подошел великий князь и, протянув руку, стал благодарить:
– Спасибо, сотник, за прекрасный полет! А вы не хотите в военную авиацию?
– Это моя давнишняя мечта, ваше императорское величество124, – ответил я.
– В таком случае вам надо уйти из корпуса, вернуться в свою часть, так как в военную авиацию призываются офицеры только из строевых частей.
Этот последний мой полет в Одесской авиационной школе открыл мне двери в военную авиацию125.
В тот момент Ткачёв не мог и предположить, что его карьера в военной авиации могла завершиться, так и не начавшись. Но провидению было угодно, чтобы великий князь Александр Михайлович, очарованный полетом кубанского казака, а, быть может, и экзотической черкеской молодого авиатора, установил для него, образно говоря, лестницу в небо. Но вскарабкаться туда Ткачёву предстояло самому…
В отчете Одесского аэроклуба за 1912 год было уделено особое внимание визиту великого князя Александра Михайловича: «После прибытия в школу Его Высочества начались полеты питомцев школы. Первым поднялся штабс-капитан морского батальона Греков. Взлетев, после короткого разбега на воздух, он плавно понесся по направлению к городу, и, пройдя несколько верст, возвратился обратно и опустился около ангаров. Вторым поднялся сотник Ткачёв, считавшийся в школе одним из самых отважных летчиков. Сделав несколько красивых кругов с резкими виражами над аэродромом, авиатор остановил мотор на высоте 300 метров и спустился парящим спуском. Картина была великолепная, и смелый авиатор был встречен восторженными аплодисментами. Его Императорское Высочество беседовал с авиаторами Грековым и Ткачёвым, расспрашивая о полетах. […] Его Высочество, оставшись доволен полетами питомцев школы, милостиво выразил желание сняться группой с пилотами и учениками школы как военными, так и частными. Все эти авиаторы выстроились в ангаре №1 вокруг своего Августейшего покровителя и были сняты фотографом»126.
Справедливости ради необходимо сказать о роли великого князя Александра Михайловича в становлении авиации Российской империи, в целом, и военной, в частности. Он был внуком императора Николая I, сыном великого князя Михаила Николаевича – наместника на Кавказе и мужем младшей сестры императора Николая II – великой княжны Ксении Александровны. Родившись в Тифлисе127, детские годы он провел на Кавказе и любовь к нему сохранил навсегда. Традиционно для Дома Романовых он ступил на военную стезю, выбрав флот: сдав все экзамены за полный курс Морского корпуса, в 19 лет отправился в первое заграничное плавание – побывал в Южной Америке, Азии и Африке. С начала 1890-х годов великий князь служил на Черноморском и Балтийском флотах, но вскоре перешел в торговый флот128. Между тем, проблемы модернизации военного флота не оставались без его внимания.
После учреждения в 1904 г. Особого Комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования, Александр Михайлович стал его председателем и к началу февраля 1910 г. собрал свыше 17 миллионов рублей на нужды Военно-морского флота. На эти деньги Комитетом были построены 18 эскадренных миноносцев, 4 подводные лодки и турбинный эскадренный миноносец «Новик», ставшим одним из лучших боевых кораблей такого класса в мире129. Великий князь продолжал бы и дальше заниматься проблемами отечественного флота, но тут случился перелет француза Луи Блерио через пролив Ла-Манш на построенном им аэроплане, который дал мощный импульс для развития мировой авиации. Великого князя, по словам биографа Дома Романовых Е. В. Пчелова130, с детства манило «все необычное и экзотическое»131, поэтому он не мог не отреагировать на это событие, полностью перевернувшее его жизнь. В своих мемуарах Александр Михайлович пишет:
«Как-то утром, просматривая газеты, я увидел заголовки, сообщавшие об удаче полета Блерио над Ла-Маншем. […] Будучи поклонником аппаратов тяжелее воздуха еще с того времени, когда Сантос-Дюмон летал вокруг Эйфелевой башни, я понял, что достижение Блерио давало нам не только новый способ передвижения, но и новое оружие в случае войны. Я решил немедленно приняться за это дело и попытаться применить аэропланы в русской военной авиации. У меня еще оставались два миллиона рублей132, которые были в свое время собраны по всенародной подписке на постройку минных крейсеров после гибели нашего флота в русско-японскую войну. Я запросил редакции крупнейших русских газет, не будут ли пожертвователи иметь что-либо против того, чтобы остающиеся деньги были бы израсходованы не на постройку минных крейсеров, а на покупку аэропланов? Через неделю я начал получать тысячи ответов, содержавших единодушное одобрение моему плану. Государь тоже одобрил его133. Я поехал в Париж и заключил торговое отношение с Блерио и Вуазеном. Они обязались дать нам аэропланы и инструкторов, я же должен был организовать аэродром, подыскать кадры учеников, оказывать им во всем содействие, а главное, конечно, снабжать их денежными средствами. После этого я решил вернуться в Россию. Гатчина, Петергоф, Царское Село и С.-Петербург снова увидят меня в роли новатора.
Военный министр генерал Сухомлинов затрясся от смеха, когда я заговорил с ним об аэропланах.
– Я вас правильно понял, Ваше Высочество, – спросил он меня между двумя приступами смеха, – вы собираетесь применить эти игрушки Блерио в нашей армии? Угодно ли вам, чтобы наши офицеры бросили свои занятия и отправились летать через Ла-Манш, или же они должны забавляться этим здесь?
– Не беспокойтесь, ваше превосходительство. Я у вас прошу только дать мне несколько офицеров, которые поедут со мною в Париж, где их научат летать у Блерио и Вуазена. Что же касается дальнейшего, то хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Государь дал мне разрешение на командировку в Париж избранных мною офицеров. […] Первая группа офицеров выехала в Париж134, а я отправился в Севастополь для того, чтобы выбрать место для будущего аэродрома. Я работал с прежним увлечением, преодолевая препятствия, которые мне ставили военные власти, не боясь насмешек и идя к намеченной цели. К концу осени 1908 года мой первый аэродром и ангары были готовы135. Весною 1909 года мои офицеры окончили школу Блерио136. Ранним летом в Петербурге была установлена первая авиационная неделя137. Многочисленная публика – свидетели первых русских полетов – была в восторге и кричала ура. Сухомлинов нашел это зрелище очень занимательным, но для армии не видел от него никакой пользы.
Три месяца спустя, осенью 1909 года, я приобрел значительный участок земли к западу от Севастополя и заложил первую русскую авиационную школу138, которая во время великой войны снабжала нашу армию летчиками и наблюдателями. […] Авиационная школа развивалась. Ее офицеры участвовали в маневрах 1912 года. Сознание необходимости аэропланов для военных целей, наконец, проникло в среду закоренелых бюрократов Военного Министерства. Я заслужил великодушное одобрение Государя.
– Ты был прав, – сказал Никки139 во время посещения Авиационной школы. – Прости меня за то, что я относился к твоей идее недоверчиво. Я радуюсь, что ты победил»140.
После начала Великой войны Александр Михайлович возглавил авиацию на театре военных действий и оставался на своем посту вплоть до 21 марта 1917 г. И все это время он постоянно держал Ткачёва в поле зрения.
100
Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 2об.
101
Воробьева А. Ю. Кадетские корпуса в России в 1732—1917. – М., 2003. С. 60.
102
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 10—11.
103
Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3.
104
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 11—12.
105
См.: Краткий очерк деятельности Одесского Аэро-Клуба с 1 января 1908 г. по 1 февраля 1914 г. (К пятой годовщине появления в России первого летательного аппарата тяжелее воздуха). – Одесса, 1914. С. 10—16.
106
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 13.
107
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 13—14.
108
Письмо В. М. Ткачёва – И. М. Портнову от 26 февраля 1964 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 52. Л. 23об.
109
Аэроплан французской фирмы «Антуанетт» («Antoinette»), которую возглавляли Жюль Гастамбид и Леон Левавассер.
110
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 14—16.
111
См.: Кибовский А., Степанов А., Цыпленков К. Униформа российского военного воздушного флота. Т. 1. 1890—1935. – М., 2004. С. 47
112
Письмо В. М. Ткачёва – Е. Ф. Бурче от 23 октября 1957 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 34. Л. 23.
113
См.: Отчет Одесского Аэро-Клуба за 1911 г. – Одесса, 1912. С. 83.
114
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 9, 18, 20—21.
115
См.: Отчет Одесского Аэро-Клуба за 1911 г. – Одесса, 1912. С. 83.
116
Одесский листок. 1911. 3 ноября.
117
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 13.
118
Отчет Одесского Аэро-Клуба за 1911 г. – Одесса, 1912. С. 16—17.
119
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 21—22.
120
Письмо племянницы Ольги – В. М. Ткачёву от 15 февраля 1964 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 47. Л. 38—38об.
121
Воздухоплаватель. 1912. №1. С. 12.
122
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 29.
123
Краткий очерк деятельности Одесского Аэро-Клуба с 1 января 1908 г. по 1 февраля 1914 г. (К пятой годовщине появления в России первого летательного аппарата тяжелее воздуха). – Одесса, 1914. С. 17—18.
124
Правильно: высочество.
125
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2. Т. 1. Л. 33—35.
126
Отчет Одесского Аэро-Клуба за 1912 год. – Одесса, 1912. С. 28.
127
Ныне – Тбилиси, столица Грузии.
128
См.: Лебедев В. Д. Вклад великого князя Александра Михайловича в развитие военно-морского флота и авиации России // Вестник архивиста. 2011. №2. С. 226—247.
129
См.: Краткие сведения о деятельности Высочайше учрежденного Особого Комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования и его Отдела воздушного флота. – СПб., 1912.
130
Пчелов Е. В. Романовы. История династии. – М., 2001. С. 337.
131
Разве нельзя предположить такую логическую «экзотическую» цепочку: Кавказ – черкеска – сотник Ткачёв – аэроплан, которая сложилась у великого князя воедино при посещении Одесской авиационной школы?
132
Великий князь Александр Михайлович ошибается: фактически оставалось 900 тысяч рублей.
133
6 февраля 1910 г. император Николай II повелел: «1) оставшуюся в распоряжении Высочайше учрежденного Особого Комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования наличность в сумме 900.00 р., а равно и могущие поступать в будущем в кассу Комитета пожертвования, обратить на создание воздушного флота России, 2) разрешить Высочайше учрежденному Особому Комитету по усилению военного флота на добровольные пожертвования продолжать для этой цели повсеместный сбор добровольных пожертвований и 3) воздушный флот, имеющий быть сооруженным Комитетом на добровольные пожертвования, оставить в ведении и распоряжении Комитета, а в случае открытия военных действий, передавать его с подготовленной командой морскому и военному ведомствам для усиления боевых сил Империи». (Краткие сведения о деятельности Высочайше учрежденного Особого Комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования и его Отдела воздушного флота. – СПб., 1912. С. 5).
134
18 марта 1910 г. во Францию были направлены для обучения летному делу в авиашколах Фармана, Блерио и Антуанет семь офицеров: полковник М. М. Зеленский, капитан 2-го ранга А. А. Янович, капитан С. А. Ульянин, корабельный инженер капитан Л. М. Мациевич, лейтенант Г. В. Пиотровский, поручики М. С. Комаров и Б. В. Матыевич-Мацеевич.
135
Речь идет об Офицерской воздухоплавательной школе в Гатчине, где летом 1910 г. был сформирован Авиационный отдел.
136
Офицеры вернулись в Россию осенью 1910 г.
137
Первая Всероссийская авиационная неделя открылась в Петербурге 25 апреля 1910 г.
138
Она была открыта в ноябре 1910 г.
139
Так называли императора Николая II в домашнем кругу.
140
Александр Михайлович, великий князь. Книга воспоминания / Приложение к «Иллюстрированной России». – Париж, 1933. С. 234—236, 238.