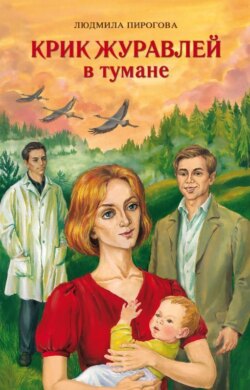Читать книгу Крик журавлей в тумане - - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Родители
1935–1954 годы
Глава 8
ОглавлениеКогда охранник захлопнул за ее спиной дверь камеры, к Наде подошла толстая рыжая тетка. Взглядом навскидку оценив новоселку, она смачно выругалась, и подвела к крайнему лежаку. Наде было дурно. Ее не просто тошнило, ее буквально выворачивало наизнанку. Она прилегла. Через несколько минут в камеру ворвался охранник.
– Встать! – с порога гаркнул он. – Предупреждаю, днем лежать на кровати запрещено. В следующий раз получишь карцер.
Надя встала и прислонилась к стене. Тошнота не проходила.
– На, сглотни. – Толстая тетка сунула ей ржавый ковш с водой. – За че тя?
– Говорят, что я воровка, – прошептала Надя.
– А ты сама не знашь, кто ты?
– Не знаю. Я ничего не знаю. Ни кто я… ни зачем… ни почему.
– Дожили! Никто ничего не знат. Ни те, кого сажают, ни те, кто сажает. Сглотнула? Теперь давай ковшик-то, тоже пить хотся.
Она допила воду и, вытерев ладонью губы, сказала:
– Не хошь говорить, не говори. Я Матрена-Мотя. Из раскулаченных мы. Папаню в энти края отправили, потому как больно ретиво пахал у себя на Брянщине. Пахал-сеял, хлебов навеял. Богатеть начал, скотиной обзавелся. Коммуна не стерпела, суд устроила: не копи, сучий сын, добро, не сей, не паши, лозунги ори. Папаша не послушался, вот его товарищи и определили на отдых для подкорма комаров. Помер он, стосковался. Маманя еще раньше преставилась, Царство им Небесное. А я вот как «дочь подкулачная» мотаю срок по жизни. А ты хошь молчать, молчи. Уж больно ты мала, в чем только душа держится. Если кто обидит, мне жалься, я выручу, я малых всегда защищаю. Сердечная я така.
Матрена-Мотя пошла на свое место.
– Постойте, – окликнула ее Надя, – поговорите со мной еще, – попросила она, – а то мне страшно.
– Энто ниче, энто быват по первости, не боись, выдюжим, – подбодрила ее Мотря.
Матрена-Мотя добровольно взяла на себя роль Надиной защитницы, благодаря чему тюремный уклад стал казаться ей не очень страшным, и дни в камере пошли веселее, чем на той воле, которая была у Нади в зотовском доме.
Здесь было относительно тепло, кормили и существовало некое братство людей, баб, от которого Надя, преданная всеми, уже успела отвыкнуть.
Со временем она узнала, что у Матрены это пятая ходка. Вообще-то, выйдя в последний раз на свободу, она зареклась воровать. Ради детей. Их у нее было пятеро. Четыре сына и одна дочь. Так как на свободе времени ей не хватало, размножалась она исключительно в неволе. Там же и беременела, потому как любила настоящих мужиков, а такие, по ее глубокому убеждению, на воле, среди «краснопузых», не водились. Были, конечно, трудности и на этапе: иногда приходилось уступать всякой швали, вроде охранников, но Матрена тщательно заботилась о том, чтобы в ее чреве не оставалось их подлых последышей. А своих детей она обожала. Они воспитывались в разных детских домах Советского Союза и присылали ей оттуда письма. За тех, кто писать еще не умел, писали воспитатели, они же вкладывали в конверты фотографии симпатичных детских мордашек.
– Вот ентот, – рассказывала она товаркам по камере, показывая очередное фото, – от Гоши Питерского народился. Мы с ним на пересылке съякшались. А я особливо и не противилась. Сами понимаете, та-коой мужик! Здоровый, кудрявый, глаза веселые. Три судимости у него тогда было, и все по мокрому делу. Разве перед этаким орлом устоит кто? – смачно вопрошала она своих тюремных товарок и, не дождавшись от них ответа, удовлетворенно итожила их молчание: – Нет, конечно. И я уступила, вишь какой у нас справный малец-молодец получился, – зардевшись, Матрена кокетливо поправляла три волосины, прилепившиеся к ее узкому лбу, и продолжала дальше, вытаскивая еще один портрет: – А ентот от Санька-родимчика. Меченый он был, с пятном возле уха. Вот знатный ворюга был! Раз у важняка во время допроса конверт с казенной деньгой спер. Тот потом вешаться хотел. А Санюга ему и говорит: давай, мол, начальник облегченье мне в сроке, спасу тебя от погибели, найду кошелек. Тот пообещал, Санька, святая душа, ему кошель вернул. Ну, легавый, конечно, допер до сути и вкатил Саньке летов на всю катушку. Застрелили его, бедолагу, при попытке к бегству.
В этом месте Матрена всегда надолго умолкала, жалея дружка. Но наступал новый день и байки продолжались. По ним выходило, что вся уголовная элита оставила государству в наследство свою поросль в лице Матрениных «породистых» детей.
Иногда, в зависимости от настроения, одному и тому же ребенку она приписывала разных отцов. Особенно много претендентов на роль отца было у единственной среди Мотиных пацанов белокурой девочки с бантом, обнимавшей на фотографии большого медведя.
В данном случае в отцовстве подозревались двое: могучий авторитет Медик, заработавший свою кличку на матерых убийствах с расчлененкой, совершенных им особо изощренными способами, и обыкновенный зек Федя. Медик пленил воображение Матрены описанием своих преступлений, в которых он подробно разъяснил ей, как надо пощекотать ханурика ножичком, чтоб замочить его и после с толком для дела расчленить на составные части организм.
Федя ничего героического не совершал, но уж больно хорошо умел любиться. До того хорошо, что при воспоминании о нем у Матрены жеманно закатывались глазки и краснели щечки, висевшие на ее лице толстыми, дряблыми мешками. Матрена жалела обоих и потому хотела их наградить одной дочкой на двоих. По ее рассуждениям выходило, что она якшалась с ними в одно и то же время, так почему бы им обоим не прицепиться вместе, так сказать, единым фронтом к Матрениной половине? Бабы с ее доводами бесспорно соглашались. Действительно, почему?
Выходя в последний раз на свободу, Матрена-Мотя намеревалась поинтересоваться у знающих людей на предмет совместного отцовства, но не успела. Бес попутал. Причем два раза. Первый раз обошлось. Дядька хороший попался, хоть и соблазнительный. Потому как выставил кошелек из заднего кармана брюк, а мордой в витрину уткнулся. Разве ж уважающий себя вор пройдет мимо такой наживы? Нет, конечно. Ну, Мотя и цапнула кошелечек. Да за годы отсидки, видать, руки у нее от ювелирной работы отвыкли, а может, мужик слишком чувствительный на заднее место попался. Только че зря гадать. Раскусил он Матрену. Мертвой хваткой ей руки повязал, но в милицию не повел. Цельный час беседу ей говорил о пользе честной жизни. Матрене-Моте беседа понравилась. Она мужику в свою очередь про детей-сирот поплакалась, которые без матери маются. Мужик разжалобился, карамелек для них купил. Матрена тоже растаяла. Поклялась ему никогда больше не воровать и жить той самой честной жизнью, про которую он «ей беседовал».
На энтом они с мужиком и расстались. Он пошел к себе в честную жизнь, а она на вокзал, где барышня с кудряшками своим радикюлем порушила ее клятву. Причем Матрена была совсем не виноватая. Просто у бабы той, дуры круглой, радикюль дюже красивый был. Из крокодильей блестючей кожи, с желтенькими замочками. Потом оказалось, что в энтом радикюле только и навару, что фасон, а боле ничего. Ни цацок, ни капусты. Кудряшка та чертова своим пустым радикюлем прям в душу Матрене плюнула. На понюх и то не хватило, зато срок ей тогда богатый вкатали, по старой памяти. Менты поганые. Опять детей сиротами оставили, пусть вот теперя сами их своим государством кормят.
Надя слушала бесконечную Матренину болтовню и постепенно выходила из депрессии. В ней начал появляться интерес к той новой жизни, в которую она попала. Она привыкла к нарам и к запаху параши, научилась различать по номерам содержание статей Уголовного кодекса. Матрена-Мотя, приняв Надю под свое покровительство, посвятила ее в тайны тюремных дел, но девчонка к блатной жизни оказалась настолько негодная, что язык матерный и тот не смогла освоить. Матрена сначала злилась на бестолковость ученицы, а потом махнула рукой:
– Каждому свое. Случайный ты, Надежда, в камере человек. Не наш, не тюремный. Если уцелеешь, с воли сюда не вернешься, а потому наука наша тебе не в надобность.
Однажды, немного для виду поделикатничав, она спросила:
– Ты, девка, по возрасту уж взрослая, а что же, женских дел не имешь еще?
– Раньше было, – пролепетала покрасневшая Надя.
– Было, че ли, дело с кем?
Надя вспомнила Зотова и содрогнулась.
– Нет! – твердо ответила она, будто надеялась, что от одного только этого слова ненавистный образ Зотова исчезнет навсегда, а у нее все нормализуется.
– Э-э, нет, врешь, девка! – не поверила опытная Матрена. – Я давно к тебе приглядываюсь. Врешь. То у тебя тошноты, то бледности. Аппетиту нету, а вес вроде как животом набираешь. Не могет энто случаем быть. Сознавайся.
– Это у меня от кашля. У меня воспаление хроническое в легких. Вы же сами слышите, как я подкашливаю, – пустилась в объяснения Надя, сама не веря своим словам.
Она уже давно чувствовала, что с ней происходит неладное, но не могла понять почему.
– Меня не проведешь, мне такие дела ешшо как знакомые. Можешь и не сознаваться, я и так давно уж догадалась – носишь. Никак, снасильничал кто над тобой, и потому говорить не хочешь? – не отставала от нее Матрена.
Надя хотела в ответ возразить, но голос предательски задрожал и она заревела.
– Из энтих, из лампасников галифейных, наверняка, – догадалась Матрена. – Так?
Не в силах что-либо сказать, Надя кивнула.
– У, гады ползучие. Мало им коммунизма с партией родимой, они еще и девчонок-малолеток иметь хотят. Празднуют свои удовольствия, без стыда всякого, – выругалась Матрена. – Ты вот че, девка, не реви. Москва слезам не верит, и мы тоже. В Ужог тебе надо, нельзя тебе по этапу. Силы в тебе нету. А в Ужоге – там больница и дом младенца. Там все наши рожают. Я там тоже три раза отмечалась. Врач там душевный, Сергей Михалыч, из заключенных, политический. Сдается мне, ты того же корня, он нежных оберегает. Сам из антиллигельных.
– Интеллигентных, – улыбаясь сквозь слезы, поправила ее Надя.
– Ну, оно мне не больно надо, – отмахнулась Матрена, – счас мы тебе медосмотр организуем. Ложись, помирай.
– Чего? – удивилась Надя.
– В обморок, говорю, падай, а мы уж тут за тебя все объясним, – Матрена застучала в двери камеры.
Провожая Надю в Ужог, матерая уголовница прослезилась. Эта худенькая, слабенькая девчушка растревожила в ней материнские чувства, притупленные пожизненной разлукой с собственными детьми.
– Ну, ты, давай там, не робей, рожай как положено, – обняв припавшую к ней Надю, она неловко гладила ее по худеньким плечам. – Меня не забывай, может, даст Бог, свидимся. А по тюрьмам ты того, не приучайся, гиблое энто дело. Береги себя, – всхлипнула Матрена и, испугавшись собственной сентиментальности, отстранила Надю, нарочито грубо добавив: – Давай, будя. Михалычу привет передавай от заслуженной роженицы Советского Союза. Энто он меня так зовет. Скажи, скоро буду. Говорят, Витю Грека взяли. Вроде тут он, в наших краях кантуется. Глядишь, и сладим мы с ним еще одного гражданина для любимой нашей эСеСеСеРы.
Когда за Надей захлопнулась дверь, Матрена в бессильной злобе долбанула по железу кулаками и головным платком вытерла обильные слезы.