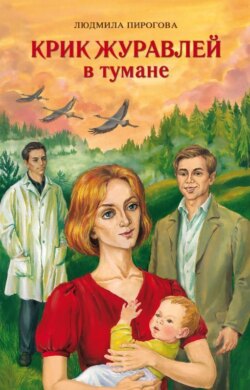Читать книгу Крик журавлей в тумане - - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Родители
1935–1954 годы
Глава 11
ОглавлениеСофья Марковна Рубман родилась и выросла в Курске. Отец ее был директором того же самого магазина, в котором до революции служил приказчиком. Своевременно подсуетившись, он обзавелся документом, подтверждающим, что служил там всего лишь грузчиком. Советская власть приняла к сведенью его трудовую биографию и поручила ему особо ответственное задание по снабжению пролетарских желудков политически правильной едой.
Папаша Рубман, будучи человеком догадливым, очень скоро понял, что даже при новой власти, с ее хваленым равенством и братством, желудки у всех братьев разные. Для одних хватало и того, что было на прилавке, а другим требовалось нечто более интересное, из-под прилавка. Таким образом, папаша Рубман не бедствовал, обеспечивая сытое и беззаботное существование своему малочисленному семейству. Они с женой Руфой всегда хотели иметь много детей, но Господь не учел их пожеланий. Первый сын умер в возрасте трех лет от воспаления легких. Вторая дочь, дожив до пятнадцати лет, умерла от менингита. Чета Рубманов молилась, и, когда надежда почти уступила место отчаянью, свершилось чудо. В день своего сорокалетия Руфа, краснея и смущаясь, сообщила мужу о том, что ждет ребенка. Папаша Рубман был счастлив. После рождения Сонечки, он заставил жену уволиться с работы, чтобы ничего не мешало ей заниматься дочерью.
Сонечка росла капризным и избалованным ребенком, имея все, что можно купить за деньги: куклы, платья, украшения. А вот друзей у нее не было. Не получалось у нее дружить с соседскими ребятами, что очень огорчало маму Руфу. Однажды она поделилась своими огорчениями с папашей Рубманом, но тот ни о чем не желал слушать.
Его девочка была здорова, умна, а все остальное, по его мнению, не имело никакого значения.
– Зачем нашей девочке друзья? Друзьями сыт не будешь, через них быстрей пропадешь, чем выживешь в стране, где каждый друг другу враг народа, – сказал он. – Главное, что у нашей девочки есть папа-золото, мама-золото и много другого золота. Этого достаточно для того, чтобы обойтись без голодранцев, за которых ты, не понятно зачем, агитируешь нашу дочь.
Обвинения в агитации так напугали маму Руфу, что она больше не задавала вопросов на эту тему.
Папаша Рубман не догадывался, какими пластами укладывались его слова в душе дочери. Взращенная в атмосфере запредельной родительской любви и обожания, она пришла в первый класс, ожидая особенного отношения к себе, но оказалось, что до нее никому нет дела. В классе, где было сорок человек, постоянно что-то происходило, и у Софьи не получалось быть вместе со всеми. Она очень хорошо училась, и за это ее звали «зубрилой», она пыталась помочь отстающим – ее назвали «собакой-задавакой», она честно отвечала на вопросы учителей – ее записывали в «подлизы». Софья переживала, не понимая, чтó она делает не так, а однажды, когда парень, который ей нравился, сказал, что из такого гадкого утенка, как она, никогда не вырастет прекрасный лебедь, проплакала всю ночь. Потом она еще долго ходила грустной, но рядом был папаша Рубман, который неустанно говорил про «маму-золото, папу-золото и много другого золота», подводя Софью к мысли о том, что необязательно быть «прекрасным лебедем», у «гадкого утенка» тоже могут быть неплохие перспективы, если он в золотой оправе. Мысль трансформировалась в убежденность, и школу Софья заканчивала не только с золотой медалью, но и с твердой уверенностью в том, что она первейшая из первых.
Выбирая медицинский институт, Софья думала не о том, чтоб помочь страждущим, а о выгоде, которую сулит профессия врача.
«Что такое инженер? – рассуждала Софья. – Железяки, машины, чертежи. Поживиться нечем, уважать тоже не за что. Другое дело – врач. Ему и кланяются, и подарки несут – лишь бы помог, лишь бы осчастливил своим вниманием. И никто не осмелится обидное слово сказать, никто не осудит, а если и осмелится, то сам же от этого пострадает. Есть у врача такая власть над людьми, и они это знают, ведут себя смирно».
О том, что у врачей есть и другое, более высокое предназначение, заключающееся в служении людям, Софья не думала, да оно ей было и не надо. В той жизни, которую она выстраивала, следуя заветам папаши Рубмана, ей нужны были деньги и власть, дающая защиту от обид. С этой точки зрения, профессия врача казалась ей идеальной, и она без проблем поступила в мединститут. Папаша Рубман от гордости за дочь поменял старый, тридцатилетней давности, пиджак на новый, купленный по случаю распродажи конфискованных у соседей вещей. А было это каких-нибудь пять лет назад. Мамаша Рубман выразила сомнения.
– Мне кажется, что наша дочь не очень любит людей и ей будет тяжело их лечить. Мне кажется, она сама больна.
– Как ты можешь так говорить о собственной дочери? Она тебе не нравится, да? – вопрошал муж. – Наша Софочка умная и послушная девочка. Как может матери не нравиться такая дочь? Ты плохо говоришь, Руфа, очень нехорошо.
– Я люблю нашу дочь, но врач всегда рядом с чужой болью и с чужими страданиями. Я много раз замечала, с какой брезгливостью смотрит Софочка на бедных и беспомощных людей, особенно на калек, – не отступала Руфа. – Может быть, сейчас она еще молода и не понимает этого, но со временем она возненавидит работу, на которой придется их лечить.
– Зачем ей калеки и нищие? – недоумевал папаша Рубман. – При чем здесь все эти люди? Софочка будет лечить себя и свою семью. Мне нет дела до других людей. Ты все-таки не любишь свою дочь?
– Да люблю я ее, люблю! – восклицала Руфа. – Просто боюсь, что когда-нибудь нелюбимая работа превратится для нее в каторгу.
Эти разговоры продолжались до тех пор, пока однажды папаша Рубман не разозлился. Стукнув пухленьким кулачком по столу, он закричал так, что щеки его затряслись, а из отвислых губ полетела слюна:
– Ты не любишь нашу дочь и меня. Ты плохая мать и еще худшая жена. Можешь уходить. Мы проживем и без тебя. Или уходи, или замолчи.
Это был второй за все годы совместного проживания семейный скандал, и мама Руфа сочла за благо замолчать.
В институте, как и в школе, Софья училась отлично. В то время когда юные студентки падали в анатомичке в обморок, она с холодным интересом изучала истерзанные внутренности человеческих тел. За это ее очень сильно уважал профессор Журкин, считая, что из Сони получится отличный хирург. Он ставил свою любимицу в пример сокурсникам, те в ответ кивали, но дружбы с отличницей не заводили. Впрочем, она в ней уже и не нуждалась.
К моменту окончания института произошло событие, круто изменившее жизнь Сони в сторону ГУЛАГа. Началось все с того, что в их доме появился молодой рыжеволосый гость. Это был инспектор райкома по торговле, которого папаша Рубман пригласил на ужин для обсуждения торговых дел. Парень целовал ручки маме Руфе, суетился вокруг Софочки, дарил ей цветы и, быстро сообразив, что к чему, стал приглашать ее на свидания. Соня ухаживания кавалера приняла, и папаша Рубман, помолясь, тайком начал готовиться к свадьбе.
А потом в «хозяйстве» папаши Рубмана началась очередная ревизия, и от обилия впечатлений с ним случился инфаркт. И хотя вся бухгалтерия у него была в порядке, сам факт внезапной смерти директора магазина вызвал у комиссии нехорошие подозрения. Возглавлял комиссию рыжеволосый Сонин жених. Трясясь от страха и проклиная себя за связь с семьей предполагаемого преступника, он проявил невиданное рвение в проверке финансовых документов папаши Рубмана. В результате выяснилось даже то, чего на самом деле и в помине не было. Так как обвиняемый к тому времени был мертв, а значит, неподсуден, бремя финансовой ответственности легло на его семью. Жених растворился в пространстве. Имущество семьи Рубман конфисковали, из просторной трехкомнатной квартиры в центре города их переселили в коммуналку на окраину. Папаша Рубман явно переоценил свои силы. Он отложил на черный день лакомый кусочек, но, не рассчитав сроки его наступления, не успел этот кусочек надежно спрятать. Софья Марковна осталась без «золотого» будущего, сумев уберечь от разгрома лишь небольшую часть золотого запаса семьи. Мама Руфа от горя ушла вслед за мужем в иной мир.
Судьба преподала Софье жестокий урок, а она была хорошей ученицей и четко усвоила, что для выживания в окружающей ее среде мало иметь одно лишь золото. Нужно еще уметь приспосабливаться к ситуации в этой среде, ничем при этом не брезгуя. И она написала заявление с отказом от своего отца: любые средства хороши, лишь бы выжить, лишь бы не пропасть, как бедный папаша Рубман, оказавшийся без вины виноватым.
Соответствующая комиссия учла заявление студентки Рубман и разрешила ей продолжить учебу в институте. Через полгода Софья получила диплом с отличием и выбрала место своей будущей работы – Беломорлаг. Профессор Журкин пытался ее отговорить, предлагая должность на кафедре, но Софья была непреклонна. Она хотела начать свою трудовую биографию с листа, не запятнанного делом папаши Рубмана. Беломорлаг наилучшим образом гарантировал защиту от последствий случившегося скандала, давал возможность заявить о себе как об идейно преданном товарище, выбравшем суровый путь служения системе. И к тому же новый статус давал Софье власть над людьми, чего она всегда хотела.
Профессор Журкин, прощаясь с Софьей, выразил сожаление, что столь блестящая студентка не стала научным сотрудником, и дал ей номер телефона своего коллеги, московского профессора, пообещав свое ходатайство и протекцию.
Ужог, куда она прибыла, состоял из нескольких улиц с деревянными двух- и трехэтажными домами, магазина, почты, школы и большого сарая с вывеской «Клуб». Его окраина упиралась в зону, отгороженную колючей проволокой, к которой Софья быстро привыкла. Сторожевые вышки, унылые бараки, одинаково серые охранники, злобный лай овчарок, понурые в своей покорности судьбе лица заключенных – вся эта навечно лишающая любой надежды адская геенна была для Софьи всего лишь предметом изучения, анализа и классификации. Особенно занимали ее бабы: грубые, грязные, вшивые, не имеющие права на жизнь, они продолжали любить и светились от счастья, глядя на своих младенцев! Материнский всепревозмогающий инстинкт в условиях неволи стал темой для одной из глав будущей диссертации Софьи Рубман. Туда стекались и другие данные, сухо отражающие картину убогой жизни и трагической смерти матерей, попавших под лагерные жернова.
В своем отношении к заключенным Софья Марковна четко следовала указаниям лагерных инструкций. Лишь несколько раз по приезде она нарушила их, идя навстречу пожеланиям доктора Крыленко. Но тут был особый случай. Увидев его в первый раз, она не признала в нем заключенного: ни затравленного взгляда, ни угодливости в поведении. Несмотря на убогость обстановки, на зависимое положение узника, он сохранял человеческое достоинство и оставался весьма привлекательным мужчиной. А Софья в силу молодости еще не совсем истребила в себе женское начало. Оно и давало червоточину, заставляя ее то смутиться в присутствии доктора Крыленко, то покраснеть, то улыбнуться ему. Сергей Михайлович в свою очередь относился к коллеге предельно вежливо, вел с ней беседы на медицинские темы, приглашал на чашку чая, иногда даже комплименты говорил. Для него это были рабочие моменты, хороший тон по отношению к женщине, и не более того. Для нее, сжавшейся в комок от былых обид и непривычной к такому обхождению, – знаками повышенного внимания. Каждый из них она воспринимала как аванс на будущее и со своей стороны всеми возможными способами давала понять доктору Крыленко, что готова подумать об их отношениях.
«Уродина!» Одно лишь слово спустило ее с небес на землю. Она расслабилась, отступила от своих принципов, проявила слабость, попав в зону обаяния доктора, и получила пощечину. Закономерную, считала Софья, дав себе слово, что это ее последний урок. Больше она никогда не позволит себе ни малейшей слабости: работа в соответствии с инструкциями, жизнь – по хорошо усвоенным правилам выживания. И она не простит доктору Крыленко нанесенного оскорбления. Здесь лагерь, и право сильного на ее стороне, а не на стороне доктора, обнаглевшего до того, чтобы оказывать знаки внимания убогой Воросинской.
Открытая форточка была лишь первым жестом ее мести.
У себя в бараке, лежа на нарах, Сергей ворочался с боку на бок, пытаясь заснуть. Он закрывал глаза, считал слонов, но сон не шел. Почему-то все время где-то рядом, прямо перед ним кружилось раскрасневшееся Надино лицо. В конце концов он встал, оделся и пошел к выходу.
– Стой, кто идет? – окликнул его охранник на выходе из барака.
– Это я, доктор Крыленко, – откликнулся Сергей. – Мне в больницу надо, там больная у меня тяжелая.
– Ну, раз надо, иди, – равнодушно зевнул солдат, – у вас, у докторов, все не как у людей.
В больничных окнах стояла сонная темнота, вокруг было тихо.
«Видно, я зря всполошился. Все здесь спокойно. Ну ладно, посмотрю и пойду спать», – подумал Крыленко, входя в полутемный коридор отделения.
Навстречу ему бросилась Машенька.
– Михалич, а я за тобой собхалась. Надюша нехоошая, неладно с ней. Гохит она вся, как в огне, и хлипит. С вечера в себя не плиходит, – шепелявила Машенька, едва успевая за бегущим по коридору доктором.
Он вбежал в палату, включил свет и, едва взглянув на Надю, понял, что самое страшное произошло. Ее трясло как в лихорадке, лицо было пунцово-красным от жара. Крыленко нащупал пульс. Он бился с бешеной скоростью.
– Надя, Наденька, – склонился он над ней, – ты меня слышишь? Отзовись, Надя.
Она открыла глаза, посмотрела на него долгим неузнающим взглядом, а потом сказала:
– А, это вы, – и потеряла сознание.
«Неужели послеродовой сепсис?» – первое, о чем подумал он.
Мысль о том, что он не выполнил собственное обещание уберечь от беды несчастную девушку, ввергла его в состояние такого ужаса, что он потерял способность соображать. В отчаянье он опустился на колени у постели и, сжав виски руками, тихо застонал:
– Боже, я виноват. Я не спас свою семью, не спасу и девочку эту. Господи, Ты сделал ее смыслом моей никчемной жизни, так почему теперь забираешь ее? Лучше меня возьми, я давно этого хочу!
Стоявшая рядом Машенька тронула его за плечо:
– Михалич, может, Надейке полотенце холодное на голову положить?
Он посмотрел на нее невидящим взглядом.
– Что? А… это ты. Надя умирает. Глюкозы нет, антибиотиков тоже, травы жаропонижающей и той здесь нет. В этой проклятой дыре кроме смерти ничего нет.
– Ты чего, Михалич, говолиш-то? – тихая, робкая Машенька заговорила неожиданно громко. – Она ведь не в лесу валяется, а в больнице лежит. А ты доктул обхазованный. Натулальный москаль. Чего ты ее ханьше влемени похолонил? Делай, давай, чего-нибудь. Хоть повязки ей на голову клади. Чего ты здесь лазвалился? Неуж мужик здоловый, сильный, этакой пигалице не поможет? Вставай, кому говолю! – Машенька налетела на него и начала пинать, пытаясь поднять с пола.
Удивленный поведением Машеньки, Крыленко встал. Перед ним, на кровати, тяжело дыша, лежала юная женщина. Не любившая, не познавшая счастья, но уже уходящая в иной мир.
– Девочка, милая, – прошептал Крыленко, поправляя пряди светлых волос, – жить тебе надо. Поменяться бы нам местами. Неужели придется мне и тебя хоронить?
Надя вздохнула, приоткрыв глаза, и снова впала в забытье.
– Сколько еще стоять будешь, илод!
Сергей почувствовал удар по спине, обернулся. Разъяренная Машенька, держа в руках полотенце, замахнулась для нового удара.
– Скоко ж можно нюни ласпускать! Мужик здоловенный, а нюнит, как сопля какая. Ты пошто живую холонишь? Пошто в глоб ее кладешь? Нагнись хошь, послухай, не стой столбом.
Надя, словно подтверждая требование Машеньки, закашлялась.
– Я самый натуральный идиот, – очнулся Сергей, – меня дисквалифицировать пора. – Он метнулся к Наде и поднес к ее губам попавшееся под руку полотенце.
На белой ткани появилось пятно гнойной, вязкой мокроты с примесью крови. Он вспомнил слишком частое покашливание, которое Рубман оставила без внимания, и, проклиная себя за невнимательность, бросился в ординаторскую за фонендоскопом. После тщательного выслушивания Крыленко облегченно вздохнул. Крупозная пневмония – это все-таки лучше, чем послеродовой сепсис.
Рубман спала в углу ординаторской на жестком топчане.
– Софья Марковна, проснитесь, – нарочито громко сказал Сергей, подходя к топчану.
– Что случилось? – вскочила Рубман, поправляя белый халат, в котором спала. – Что вы здесь делаете? Мне пора сдавать смену?
– Людей пора лечить, – жестко сказал Сергей Михайлович. – Вы ведь врач все-таки, а не пожарник. К тому же у вас есть тяжелая больная, – он отвернулся, стараясь не смотреть на заспанную, помятую женщину, чтобы не нагрубить ей.
– Вы пришли сюда среди ночи для того, чтобы рассказать мне о моих обязанностях?
Крыленко сделал вид, что не заметил вызова в ее словах.
– Я пришел, потому что у Воросинской крупозная пневмония.
– Вы теперь ставите диагнозы, лежа на нарах в своем бараке?
– Как я их ставлю, не имеет значения. Мне нужен пенициллин. У вас есть, я знаю.
– То, что есть у меня, вас не касается. Вы меня оскорбили, прощения не попросили, а теперь надеетесь на мою помощь. Не получится.
Сергей посмотрел на коллегу. В этот тяжелый для него момент она казалась ему особенно отвратительной. Уродина! Во всех отношениях уродина. Но сейчас надо спасать Надю.
– Вы правы, Софья Марковна, я поступил непорядочно. Простите меня за мое поведение.
– Вы думаете, я не понимаю цену вашего извинения? Для меня она ничтожна. Пенициллин – мой личный запас, и я не обязана его раздавать кому попало. Тем более за дежурное, мимолетно сказанное «извините», – Софья направилась к выходу, но Сергей преградил ей путь.
Взглянув на его лицо, она испугалась. Казалось, он готов был убить ее. Она мгновенно оценила опасность: ночь, охрана далеко, в случае чего его, конечно, потом накажут, но ей это уже не поможет. Стараясь не показать своего испуга, Софья сказала:
– На колени встанешь, прощенье попросишь, может, и дам тебе лекарство. А нет, сам виноват будешь в смерти заключенной Воросинской.
Сергей в бешенстве выскочил из ординаторской. Из Надиной палаты послышался звук кашля, идущая навстречу Машенька смотрела на него умоляюще. Он вернулся и покорно встал на колени, прося прощения.
Две недели он не выходил из больницы. Спал урывками, почти не ел. Особенно тяжело прошли первые три дня. К концу первых суток улучшения не наступило. На второй день он уже начал сомневаться в эффективности выбранного лечения, но на третьи сутки температура стала спадать. Кризис миновал.