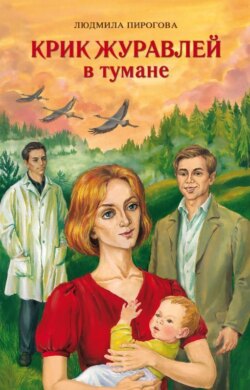Читать книгу Крик журавлей в тумане - - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Родители
1935–1954 годы
Глава 6
ОглавлениеОни уезжали из Москвы, и это была уже как бы вторая серия их бытия.
Бесконечная дорога, проведенная на жесткой полке общего вагона, пропахшего человеческими нечистотами, разделила ее детство пополам. Из Надиной жизни исчезли счастливые краски родного города. Их заменило однообразие вечного холода и неуюта серой Воркуты. Вначале еще были удивления. Поразили глаза местных мужиков, разрисованные черными карандашами. Удивляло оранжево-розовое чудо – ягода морошка.
Потом выяснилось, что глаза мужикам раскрасила черная угольная пыль, что кисловатая морошка растет на болоте и кроме нее на этих болотах больше ничего хорошего не растет. Мандарины с их новогодним запахом остались в Москве.
Декорацией для новой жизни служила унылая карликовая растительность. Все вокруг было сумрачным и убогим. Даже небо здесь было не таким высоким и голубым, как в Москве. Оно висело над городом низкой тучей, стараясь придавить его к земле своей свинцовой тяжестью, и люди покорно подставляли плечи под свалившийся на них груз. В их числе были и Надя с мамой, ходившие по серой Воркуте, не поднимая глаз.
После отъезда из Москвы они не жили, а как бы извинялись за то, что живут. Чувство собственного достоинства у них отобрали вместе с гордым званием советских людей, оставив взамен право называться членами семьи изменника Родины, а короче – ЧСИР. В Воркуте ЧСИРам предстояло искупать вину своих арестованных близких, а все остальное, в том числе жить и дышать, им было не положено. Но они дышали и, даже более того, хотели есть. Бесконечные унижения, осознание собственной ненужности и того статуса бессловесного микроба, в который превратилась их жизнь в условиях вечного голода и холода, делали их существование без смысла и надежды. Но другого выбора у них не было и им пришлось привыкать к новым условиям.
Надю с мамой поселили в убогом, вонючем деревянном бараке на окраине города, который от древности действительно врос в землю по самые окна. Кроме матери и дочери Воросинских в нем жили еще несколько семей. Взрослые друг с другом особо не знакомились и без нужды между собой не разговаривали. Их повседневное соседское общение сводилось к угрюмым кивкам и пьяным скандалам на общей кухне.
В противоположность родителям, дети между собой дружили и постоянно роились единой чумазой кучкой во дворе, где вместо качелей и каруселей торчали гнилые пни. Сначала Надя боялась подходить к барачной стае, помня о том, как прогнали ее из своей компании московские подружки, но потом поняла, что здесь всем плевать на ее какую-то вину перед Родиной. Подружившись с ребятами, она перестала замечать, что от их замусоленной одежды пахнет мочой, что дырки на их штанах никто не зашивает и что с их носов порой стеклянными сосульками свисают сопли. Новые друзья понравились. Они научили ее драться, играть в ножички и ругаться «матными» словами так же залихвастски, как самый буйный взрослый житель барака Гошка, живший по соседству с Воросинскими. Среди местных обитателей спокойных людей вообще было мало. Тонкие дощатые перегородки плохо изолировали, и густонаселенный барак регулярно наполнялся жуткой какофонией звуков, где отдельные человеческие голоса исполняли «вечные арии» на тему проклятой жизни. При этом очень трудно было понять, кто из соседей плачет, а кто смеется. Гошка все время орал, голоса его жены Надя никогда не слышала и считала ее немой. Кроме того, в Гошкиной комнате что-то все время падало. Иногда оно попадало в Надину стену, сотрясая ее до угрозы обрушения. Однажды, после того как накануне вечером стена тряслась особенно сильно, она не выдержала и спросила у Гошкиного сына, Кирьки:
– А у тебя что, отец – спортсмен?
– Чег-го? – удивленно переспросил Кирька.
– Ну, силачи такие бывают, я на картинке видела. Они гири поднимают, а удержать не всегда могут. Вот у них гири и падают, – попыталась объяснить Надя.
Кирька от удивления даже забыл растереть рукавом соплю.
– Ты че, белены объелась? – спросил он.
Надя уже и сама поняла, что загнула куда-то не туда, но решила не отступать и выяснить все до конца.
– Просто у вас все время что-то падает, вот я и решила, что это гири.
– А, это… – дошло наконец до Кирьки. – Не-а, это не гири, это батяня мамашу учит.
– Как учит? – не поняла Надя.
– Как и положено, – примериваясь ножичком к броску, ответил Кирька, – лупит ее всем, что под руку попадется. Иногда кулаком так двинет, что она с ног падает или по стенке сползает. Вот у вас и слышится.
– Так что же она у вас, глупая? – прошептала обалдевшая от этих слов Надя.
– Все бабы – дуры.
– Так ей же больно! – отчаянно воскликнула Надя.
– Кому, мамане? – переспросил Кирька, бросая нож. – Не знаю, она ниче не говорит. Я и сам иногда думаю, как она терпит, у батяни рука тяжелая, он мне раз за кол по русскому звезданул по уху, так оно у меня потом два дня болело. А маманя ниче, не жалуется. Мужику, ему по званию баб учить положено, он – хозяин. Вот ты вырастешь, за меня замуж пойдешь, я тебя тоже учить буду, а ты мне сапоги стаскивать после будешь, как маманя бате.
Надька вспомнила вечно пьяного Гошку, его худенькую, закутанную в бесконечные платки жену, представила на их месте себя и Кирьку с сапогами и так перепугалась, что завопила на весь двор.
– Нет, никогда… не буду… стаскивать сапоги… не хочу!
С воплями она накинулась на Кирьку и начала его колотить куда попало. Она колотила его и кричала до тех пор, пока из дома не выскочила мама и не оттащила от Кирьки.
Вечером, открыв дверь ударом ноги, в их комнату ввалился Гошка. Встав посредине, он широко расставил ноги и молча уперся в Надю тяжелым, нехорошим взглядом. Постояв так минут пять, он, по-прежнему не говоря ни слова, перевел свой взгляд на маму. Наде стало страшно.
– Ну… – прорычал он, – энто твоя дочь Кирьку мово на весь барак ославила.
От страха Надя схватилась за маму, прижимаясь к ней, как к палочке-выручалочке.
– Значит, так, – сказал Гошка, слегка покачиваясь, – правов у вас никаких нету, сидите тиха, покуда я вас тута пока терплю, потому как человек я партийный и сознательный, не то что вы, контра недобитая. А то разозлюсь, и пойдете вы у меня на болота мошку кормить. Понятно? – брызнул он на Надю слюной. Не услышав ответа, он повторил свой вопрос уже более грозным тоном: – Я вас спрашиваю, вам все понятно?
Испуганная не меньше Нади, мама чуть слышно прошептала:
– Не беспокойтесь, мы все поняли. Больше этого не повторится.
– То-то же. Каждый должен знать свое место, а не то…
Не договорив, он ушел к себе и скоро оттуда послышался звук падающего тела. Надя с мамой сидели, не разнимая рук. Надя жалела Кирькину мать и, переполняясь сочувствием к ней, не замечала, как рядом беззвучно плачет ее собственная мама. Может быть, именно в тот вечер мама приняла решение, ставшее для них роковым.
Она была пианисткой и раньше работала в театре. Надю однажды водили на мамин концерт. Когда мама вышла на сцену, Надя узнала ее не сразу. В длинном черном платье, с гладко зачесанными назад волосами, она показалась Наде абсолютно чужой и была больше похожа на Прекрасную незнакомку с известной картины, чем на маму. Мама играла на рояле, а какая-то тетка под эту музыку пела, широко раскрывая рот. Все аплодировали. Кроме Нади. Ей не нравилась тетка. Она была толстой и уродливой, но стояла посреди сцены, кланялась зрителям и забирала у них цветы, которые они наверняка хотели подарить маме. Ведь мама была такой красивой! Но она сидела в глубине сцены за своим черным роялем, и тетка никого к ней не пускала. Мама осталась без цветов, а обиженная на тетку и на зрителей Надя больше на концерты не ходила. Дома мама лишь для нее одной играла веселые пьески на блестящем черном пианино, и девочка с восторгом смотрела, как легко порхают ее изящные длинные пальцы по ряду черно-белых клавиш. Сама Надя успела разучить лишь одну мелодию, которая ей очень нравилась, потому что под нее можно было петь: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, села кошка на такси». А теперь… Теперь судьба забросила их в неведомую раньше Воркуту, где единственно понятной для всех музыкой был похоронный марш.
Быть может, в тот вечер мама смотрела на свои некогда холеные руки с гибкими, длинными пальцами и, рыдая от собственной беспомощности, мучительно искала выход из сложившейся ситуации. Как выжить? Без права и средств на существование, без защиты от тех, кто бесцеремонно врывается в твое жилье с угрозами. Она ничего не умела и могла поступить только так, как поступила. На следующий день они собрали вещи и ушли в другой барак, к дяде Мите. Уголь нарисовал на его лице не только глаза, но и морщины.
Сначала Надя боялась, что он начнет «учить» маму. Но дядя Митя был очень добрым. Он обращался с ними как с фарфоровыми статуэтками. Он смотрел на мать с дочерью с восхищением и восторгом и вел себя рядом с ними так, будто постоянно боялся, что от его неловкого движения они могут разбиться.
Мама немного повеселела. Дядя Митя помог ей устроиться музыкальным работником в детский садик. Надя пошла в школу. Когда ее не приняли в октябрята, она, обиженная, поделилась своей обидой с мамой. Мама удивила дочь тем, что посоветовала не обижаться на всех, кто родом из октября, потому что у них с Надиной семьей разные родословные. Надя про родословные ничего не знала и грустила до тех пор, пока не пришел с работы дядя Митя. Узнав, в чем дело, он пошел в школу и долго о чем-то разговаривал с директором. После этого разговора Надю, как приемную дочь шахтера, приняли сначала в октябрята, а затем и в пионеры.
Так они и жили. Дядя Митя добывал уголь, мама учила детей петь хором про «ягоду-калинку-малинку», Надя была отличницей в школе. А по вечерам они всем семейством ужинали. Вместе с картошкой Наде доставался жиденький чаек с сахарином и баранками, а маме – стаканчик мутной жидкости из дяди-Митиной бутылки. Выпив ее, мама становилась веселой и звонко смеялась, совсем как раньше, в Москве, а потом начинала исполнять арии из опер.
Дядя Митя был очень благодарным слушателем и всегда с восторгом кричал «бис», как научила его Надя.
Где-то далеко, в прошлой их жизни, шла война. Она требовала жертв, и с вокзала послушно уезжали в ее прожорливую пасть эшелоны с новобранцами. Взамен их война присылала похоронки и возвращала назад инвалидов. Небо придавило людей еще сильнее. Для Нади и ее мамы война ничего не изменила. Всех своих родственников они уже утеряли. Провожать им было некого, а дядю Митю на фронт не взяли из-за болезни легких. Детей стало мало, и детский сад закрыли. Мама занималась домашним хозяйством, обучала Надю французскому языку и все чаще тянулась к заветной бутылке. Надя тогда еще не знала, что такое алкоголизм, и была почти счастлива: их больше никто не обижал, а мама иногда была трезвой. Дядя Митя тоже был доволен жизнью: дочь обута-одета, отличница, жена – прямо королевна какая: и красивая, и образованная, ну отчего же по такому поводу не выпить? И они пили. Он от радости, она от горя. Каждому свое.
Однажды, в холодный декабрьский вечер дядя Митя не вернулся с работы. На шахте произошел обвал, и вся его смена погибла. Их так и хоронили всех вместе. Семь гробов, в которых находилось неизвестно что – то ли люди, то ли отдельные кости, а может, и вообще никого не было. Управление шахты выдало родственникам заколоченные деревянные ящики и строго проследило за тем, чтобы никто не смог их открыть.
С поминок маму приволок огромный черный мужик. Он бросил ее, словно мешок, на диван, неодобрительно покачал головой и ушел. Ночью маме стало плохо. Она стонала и металась по дивану, затем у нее началась сильная рвота. Но утром она пришла в себя, собрала вещи дяди Мити и пошла на базар. Оттуда она принесла краюху хлеба и бутылку самогона.
Мать с дочерью снова остались одни, беспомощные и беззащитные. Но на этот раз Надина мама не думала над тем, как выжить. Она по частям продавала вещи и пропивала свою жизнь. Она больше не пела арии из опер, почти не разговаривала, на слезы дочери не реагировала. Надя существовала вне ее сознания и отражалась в ее стеклянных зрачках, как нечто потустороннее.
Когда вещей не осталось, мама стала исчезать из дома. Она уходила рано утром и возвращалась после обеда все с той же неизменной бутылкой и краюхой хлеба для дочери. Иногда она приносила девочке поношенную одежду. Видимо, в ее затуманенном сознании все еще хранилась память о материнском долге.
Однажды Надя, решив узнать, каким образом мать добывает пропитание и выпивку, рано утром вышла из дома следом за ней. Пробираясь по городским закоулкам, они вышли прямо к вокзалу. Мама уверенно вошла внутрь здания. Надя, прячась за скамейками, прошмыгнула за ней. В зале ожидания, возле выхода на перрон стоял столбиком взрослый маленький человек без ног. Для перемещения у него была приспособлена небольшая доска на колесиках. А руки, державшие деревянные бруски, продвигали его тело-обрубок по заплеванному вокзальному полу. Рядом с ним чернел чемодан. Мама подошла к инвалиду, нагнулась, что-то ему сказала, видимо поздоровалась, взяла чемодан и пошла на перрон. Мужик поехал за ней. На перроне они устроились возле входных дверей. Сначала мама вытащила из чемодана гармонь и надела ее на плечи мужика. Затем из того же чемодана достала две коробки. Одну она поставила возле инвалида, а другую взяла в руки сама. Мужик пробежал пальцами по клавишам, проверяя звучание гармони, мама повязала свой платок пониже, и оба застыли в ожидании поезда. Они стояли молча, не шевелясь и ни на кого не обращая внимания. Когда подошел поезд и вокруг засуетился народ, мама вдруг закричала, да так громко, что Надя, давно не слышавшая ее голоса, вздрогнула.
– Люди добрыя, – истошно завывала она, непривычно коверкая слова, – люди добрыя, поможите, коли можете, герою войны, не оставьте его милостию своею, потому как он за Родину нашу сражался и живота своего не жалел и теперича инвалидом стал. Поможите, Христа ради, чем можете, люди доб-рыя-я-я.
Мама замолчала. Инвалид развернул гармонь и заиграл. Мама запела: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой».
– Хорошо поет побирушка, – толстый дядька в длинном пальто вытащил из кармана смятую бумажку, повертел ее перед собой и, пробормотав: «Многовато будет», снова полез в карман. Немного в нем поковырявшись, он вытащил медяк и кинул монету в одну из коробок. Мама принимала подношения с благодарностью, норовя поцеловать ручку благодетелям.
Раздавленная этой унизительной картиной, Надя побрела домой.
Вечером мама, как обычно, принесла краюху хлеба и бутылку.
– Мама, – тихо сказала Надя, – не ходи больше на вокзал.
Мама, не слыша ее, налила целый стакан, выпила и закусила хлебом с солью.
– Не ходи туда, – настойчиво повторила Надя, – не ходи. Смотри, что у меня есть, мне бабушка перед смертью дала, – Надя протянула ей крестик, – давай продадим его, и на эти деньги будем жить. Ты снова устроишься на работу в детский садик.
Пока Надя говорила, мама смотрела на нее непонимающим взглядом, а потом вдруг, рассмотрев протянутый ей крестик, вздрогнула и спросила тоном абсолютно трезвого, нормального человека:
– Откуда он у тебя?
– Мне подарила его бабушка, – терпеливо повторила Надя, протягивая крестик матери, – продай его. За него, наверное, сколько-нибудь дадут денег. Видишь, переливается, как радуга.
Мать взяла крестик в руки и долго-долго разглядывала его.
– Нет, Надя, – твердо и четко сказала она. – Этот крестик я продавать не буду. Он принадлежит семье Воросинских… нашему роду. Роду людей, уничтоженных своей родной страной. Я так и не поняла, зачем нас уничтожили. Мы раньше песню пели про то, как «мы наш, мы новый мир построим». Я и папа, мы оба… Мы оба старались. Строили новый мир. Мы мечтали о том, что в нем будут жить только счастливые люди, что там всегда будет много солнца. Наверное, этот мир и впрямь построят. Только другие, не мы. Мы оказались ему не нужны. Нас записали во враги этого нового мира. Я не знаю почему. У меня нет силы что-то изменить. Бог с ним, с этим их миром. Пусть сами строят, сами живут и сами подавятся своим новым миром. Ты учись жить сама по себе. К сожалению, мы не можем тебе помочь. Единственное, что мы можем оставить тебе в наследство – наша любовь. И чтобы с тобой не случилось, ты всегда помни, что я, папа, бабушка – мы очень любим тебя. Мы хотели для тебя счастливой жизни. Прости нас за то, что у нас ничего не получилось. Прости и будь осторожна. Береги себя. От целой семьи, от тех, кто веками служил России, любил и верил, надеялся и мечтал, остались лишь ты, нежная моя девочка, и этот крестик. Ты береги его, он тебя к Богу приведет.
– Зачем? – не поняла Надя.
– Где Бог, там жизнь. Ты должна жить. За всех нас, Воросинских, униженных и оскорбленных. Ты должна, а я не могу. Прости меня, девочка моя. Сейчас прости и потом, когда все поймешь, прости. Помни одно – я любила тебя и твоего отца, но меня больше нет. Я умерла вместе с ним в ту проклятую ночь, – голос матери задрожал. – Я не смогла стать для тебя спасеньем, у меня не хватило сил… Ты спрячь этот крестик, чтобы не потерять… его беречь надо. У него цены нет, бесценный он для тебя, потому и продавать его нельзя. Прямо сейчас возьми и спрячь. Лучше в одежду зашей, чтобы он всегда с тобой был, мало ли что случится. Впереди много дорог, но только одна из них тебя ждет, потому что для тебя предназначена… Бог подскажет какая. Кроме Него, тебе надеяться не на кого. Он один и заступник твой и помощник. Живи с Богом в душе, и пусть твоя дорога будет не такой убогой, как наша. Такое тебе мое благословение, солнышко мое ясное.
Мама притянула Надю к себе и нежно обняла, поглаживая дочь по плечу. А потом она снова потянулась к бутылке и, допив ее до конца, впала в забытье.
А Надя принялась искать тайник для крестика. Хотела спрятать его в тумбочке, под стопкой белья, но вспомнила совет матери и, подпоров опушку единственного платья, вшила туда бабушкин заветный дар. Получилось надежно и совсем незаметно.
Утром следующего дня Надя проснулась и увидела, что мама все еще лежит в постели.
«Как хорошо, – обрадовалась она, – наверное, мама все-таки решила продать мой крестик и не пойдет больше на этот гадкий вокзал».
Обрадовавшись, Надя подбежала к маминой кровати. Мама спала, закинув одну руку за голову. Во сне она была так же прекрасна, как в прежние московские годы.
– Мама, – ласково прошептала Надя.
На минуту ей показалось, что сейчас мама откроет глаза и они окажутся в старой своей квартире с огромными потолками и картинами. На кухне будет суетиться бабушка, в прихожей хлопнет дверью отец, уходя на работу, а они с мамой еще немного поваляются в кровати, делясь друг с другом секретами или просто мечтая о чем-нибудь.
Но мама не просыпалась.
– Мама, – еще раз позвала Надя, присев на краешек ее кровати. Пышные мамины волосы лежали серебряной волной на скомканной подушке.
Раньше Надя любила плести из них косички. Собираясь на концерт, мама зачесывала их назад и скалывала на затылке шпильками, а дома просто сплетала в косы, укладывала вокруг головы, и тогда получалась настоящая корона, только не золотая, а каштановая.
«Теперь получится серебряная корона», – подумала Надя, осторожно перебирая седые пряди.
Ей на колени безвольно упала тонкая мамина рука. Наде вдруг стало страшно. В неподвижности матери было что-то неестественное. Она потрясла ее за плечо. Мама не просыпалась.
– Мама, мама, мамочка, любимая, – зашептала она, чувствуя, как рушится мир вокруг нее, – дорогая, ну проснись… иди на свой вокзал, если хочешь, только проснись, не оставляй меня.
Надя говорила и говорила, боясь замолчать и ощутить всю глубину той пропасти, в которую уносила страшная неподвижность матери.
– Хочешь, я вместе с тобой петь буду? У нас получится. Я про клоуна песню знаю. Нам много денег дадут. Ты только проснись, ну открой глазки, хоть на минутку.
Прикоснувшись к рукам матери, Надя ощутила мертвенный холод, исходящий от родного материнского тела. Она снова начала шептать разные слова, повторяя их как заклинание, способное вернуть жизнь самой любимой и прекрасной маме. Слова дарили ей веру в то, что маму еще можно разбудить, и она держалась за них, как держится за соломинку утопающий, идущий ко дну.
«Мама еще проснется, если услышит, как плохо без нее дочке, – шептала Надя. – А если я замолчу, то мама уже не проснется никогда и ее унесут на кладбище. Там всегда холодно, и на улице холодно, и в бараке холодно, и во всем этом сером мире ХО-ЛО-ДНО! А ведь раньше, когда мы жили в Москве все вместе – бабушка, папа, мама, – мир был таким добрым и теплым!»
День спустя соседи обнаружили в комнате вокзальной пьянчужки труп молодой и абсолютно седой женщины. Сидящая рядом с ней дочь гладила мать по руке и беспрерывно уговаривала ее проснуться. Красивое, мраморно-белое лицо женщины не отражало никаких чувств. Ее душа блуждала в других мирах. Когда женщину стали выносить, дочь потеряла сознание. Девочку отправили в больницу. Полная пожилая женщина-врач, констатировав факт нервного истощения, долго вертела Надю во все стороны, приставляя к ее худенькой грудной клетке прохладную трубку. Измучив Надю бесконечными командами «дыши, не дыши», она спросила:
– Часто кашляешь? Температура бывает? В больнице лечилась раньше?
– Кашляю часто, нигде не лечилась, про температуру не знаю. Я устала, отстаньте от меня, – безразлично отвечала Надя.
– У, какие мы сердитые, – улыбнулась врач, записывая что-то в свой журнал. – Тогда одевайся. Придется тебе полежать у нас, подлечиться надо.
В графе «диагноз» она написала: «пневмония». Потом, немного подумав, добавила: «хроническая», поставив рядом знак вопроса. Тем временем, сидевшая напротив нее Надя вдруг увидела, как врачиха начала расплываться, корчить рожи, кривляться, а потом и вовсе закружилась и полетела в длинную, узкую яму. Надя заглянула в эту яму и увидела, что глубоко, на самом ее дне, стоит красивая улыбающаяся мама. Мама улыбнулась ей и поманила дочь к себе, в глубь ямы. Надя закрыла глаза и полетела навстречу к маме.