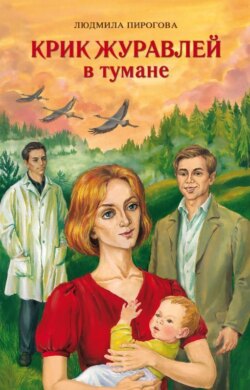Читать книгу Крик журавлей в тумане - - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть II
Родители
1935–1954 годы
Глава 12
ОглавлениеНадя, дрожа от холода, бесконечно долго летела по длинному коридору, устремляясь к свету в конце его. Когда этот свет был уже совсем рядом, из него вышла мама, а за ней бабушка. Они звали Надю к себе, протягивая к ней прозрачные руки с тонкими пальцами.
– Я иду к вам, – кричала Надя, не слыша собственного голоса.
Она уже совсем было долетела до них, почти дотронулась до зовущих рук, но они исчезли вместе с длинным коридором. Наде стало жарко. Она почувствовала тяжесть чужой руки на лбу. В глаза ударил свет, показавшийся слишком ярким. Она открыла их и увидела доктора, стоявшего рядом с ней.
– А где мама? – спросила она и снова погрузилась в тяжелый сон.
Когда она снова проснулась, было уже совсем светло от неяркого северного солнца. Доктор дремал, полулежа на соседней кровати. Она смотрела на него и не могла понять, кто этот человек? Почему он находится рядом в этой непонятной палате? Понемногу сознание стало возвращаться. Она вспомнила, что у нее родился мальчик, сын Зотова, а напротив нее дремлет доктор Крыленко. Он похудел, зарос щетиной, и почему-то стал очень красивым. Она не могла понять почему и разглядывала доктора до тех пор, пока не встретилась с его глазами. Какое-то мгновение они безмолвно смотрели друг на друга, пытаясь осмыслить происходящее. Первым опомнился Сергей.
– Наденька, девочка наша, ты вернулась к нам, – он бросился к ней и прижал ее руку к губам. – Машенька, Маша, – крикнул он в сторону открытой двери, – иди скорее сюда, Наденька к нам вернулась!
В дверях палаты появилась нянечка.
– Слава Тебе, Господи, наша маленькая мама плоснулась! – перекрестилась, входя в палату, Машенька. – Сынок тут без Надейки скучает, а она все спит и спит… – засуетилась она возле Нади.
Надя подтянулась к спинке кровати, пытаясь сесть, но не смогла, почувствовав сильное головокружение.
– Лежи, лежи, – доктор поправил подушку под ее головой, – тебе пока еще рано вставать, надо сил набраться. А богатыря твоего сейчас принесут.
Он направился к дверям, но слабый Надин голосок его остановил.
– Не надо никого приносить, – попросила она.
– Как не надо, – удивился доктор, – ведь ты родила сына, разве ты забыла?
– Я помню.
– Прекрасный мальчуган, ты сейчас его увидишь.
– Никого я не хочу видеть. Я спать хочу, – Надя закрыла глаза.
Ей не хотелось объясняться с доктором. Тем более сейчас, когда голова утопала в непробиваемом болезненном тумане.
– Ну, хорошо, – отступил Сергей, – ты действительно еще слишком слаба, тебе пока еще не до сына.
Надино поведение озадачило его. За годы работы в зоне через его руки прошли сотни рожениц, и никто из них не отказывался от детей. Даже самая последняя лагерная шалава с благоговением мадонны подносила к груди своего ребенка. А эта чистая, нежная девушка отказывалась не только любить, но даже и видеть собственного сына.
Время шло. Надя под особым присмотром доктора восстанавливала силы. У нее появилось молоко, но кормить собственного сына она по-прежнему категорически отказывалась. Молоко она сцеживала по ночам в рукомойник, а наутро говорила, что кормить сына ей нечем, подкрепляя свой отказ демонстрацией пустых сосков. Обман очень скоро обернулся против нее: грудь начала болеть, проницательная Машенька доложила доктору о новой хворобе подопечной. Опасаясь осложнений, Сергей решил действовать. Зайдя вечером в Надину палату, он, выполнив все процедуры, как бы между прочим, спросил ее:
– Ты боишься, что твой сын напомнит тебе о чем-то плохом, и поэтому не хочешь его видеть?
Услышав его слова, Надя замерла.
Болезнь сблизила их настолько, что Надя перестала стесняться доктора. Теперь она непрестанно думала о нем, ждала его каждую минуту. Клеймо «дочь врага народа» лишило ее права свободного общения еще в детстве. А потом позор и надругательство вонючего борова Зотова превратили ее в замкнутого, осторожного зверька. Доктор Крыленко своей искренней заботой и лаской растопил, растормошил ее душу. Надя заговорила, начала шутить и улыбаться, расцветая с каждым днем. Ее настроение омрачала только мысль о малыше, которую она постоянно гнала прочь.
– Ты можешь ничего мне не объяснять, – не дождавшись ответа, жестко сказал Сергей Михайлович, – но сейчас я принесу твоего сына и ты его покормишь. Ты не обязана его любить, но кормить ты его должна. Женщину, которая была все это время его кормилицей, сегодня выписали из отделения, и она ушла в барак. Больше его кормить некому. Я врач и не могу позволить тебе уморить младенца голодом. Через год его отправят в детский дом, и ты его больше уже никогда не увидишь. Он будет скитаться по казенным домам и питаться детдомовской баландой. И своим сиротством искупит вину отца. Он не будет знать своего рода-племени, станет бродяжкой или преступником, а может быть, просто умрет, забытый всеми. Его отец совершил грех, обидев тебя, а ты грешишь вдвое, потому что мстишь своему обидчику ценой жизни безвинного младенца.
Доктору было жалко Надю, он понимал, что поступает жестоко. Может быть, для такого случая существовали другие слова, но он их не знал и сказал то, что думал. К тому же у него не было другого выхода. Кормилица действительно ушла, а Надин сын был вовсе не богатырем, а хилым младенцем.
Он пошел за ребенком, оставив Надю одну. Она смотрела на дверь и думала, что вот сейчас эта дверь откроется и войдет Сергей Михайлович с ребенком на руках. Мальчик посмотрит на нее и усмехнется ей наглой усмешкой Зотова. А потом будет расти, приобретая ненавистный зотовский облик, и, каждый раз глядя на него, она будет вспоминать о своем позоре.
– Нет, не надо, не хочу! – закричала она.
Когда доктор с мальчиком на руках вошел в палату, там уже была Машенька. Она хлопотала вокруг Нади, бившейся в истерическом припадке. Увидев сына, Надя потеряла сознание.
– Уходите, доктол, вы што, не видете, што ли, квелая она, еще помлет, не ловен час, сами ж плакать будете, – недовольно зашамкала беззубым ртом Машенька.
Сергей Михайлович, растерявшись, попытался объясниться:
– Да я ж как лучше хотел, ребенка кормить надо, да и пора с сыном контакт налаживать. Не отдавать же его сразу в отказники. Ну, ты сама подумай, Машенька. Может, у них все наладится.
Увидев, что Надя открыла глаза, Машенька скоренько вытолкала доктора из палаты и велела ему не приходить до тех пор, пока она его не позовет…
Машеньке было за пятьдесят, хотя, может, и меньше. Или больше. Ее точный возраст не мог определить никто. У нее было сморщенное старушечье лицо и грация молоденькой девушки. Маленькая и проворная, она целыми днями сновала по больнице, выполняя самую грязную работу. При этом она всегда и всем была нужна, потому что обладала редкой, неестественной для зоны добротой. Она всех любила. Пациенток она делила на дамочек и шалавочек. На ее впалой груди рыдали и те, и другие, открывая девочке-старушке свои тайны и печали. Машенька умела так сострадать, что ее почитали за кого-то вроде тюремного психиатра и обращались к ней за помощью, если какая-нибудь истеричная урка теряла над собой контроль.
Как Машенька попала в зону, никто не знал. Говорили, что была она то ли комиссаром, то ли сотрудником ЧК, откуда и загремела на нары как враг народа. Сама о себе Машенька никогда не рассказывала, предоставляя всем желающим возможность самим придумывать ее биографию. За Надей она наблюдала с момента перевода ее в профильный барак. От ее внимательного взгляда не укрылся тот интерес, который вызвала новенькая у Сергея Михайловича. Доктора нянечка любила особенно сильно и жалела его. Такой молодой, красивый, ему бы хозяйку справную да детей, а он по лагерям мается. Надя ей тоже понравилась. Тихая, скромная, работящая. Правда, молода для Михалыча, но, может, и к нему в окошко солнышко заглянет…
Выпроводив доктора за дверь, она присела рядом с плачущей Надей.
– А ты поплачь, поплачь, девушка, – погладила она ее по голове, – поплачь. Слезы что? Вода, одно слово.
Рыдая, Надя уткнулась в ее колени. Машенька тихо поглаживала худенькие плечи, вздрагивающие от рыданий.
– Слезы плоливай, да не забывай, что нет в этом миле такого голя, котолое нельзя было бы оплакать, а после забыть. И твое голе плойдет, забудется, тлавою по весне заластет, да и сгинет со свету, – приговаривала она, продолжая поглаживать прильнувшую к ней Надю.
Когда Надя немного успокоилась, Машенька уложила ее в постель, а сама быстренько сбегала за чайником. Вместе с ним она принесла несколько белых сухариков и изрядный кусок колотого сахара.
– Ты глянь, какое у нас здесь богатство объявилось, – засуетилась она вокруг Нади, – щас мы с тобой такой пил закатим, что всем влагам тошно будет.
Машенька задорно топнула ногой.
– У тебя слова такие смешные получаются, – улыбнулась сквозь слезы Надя. – Машенька, а почему ты так странно говоришь?
– Чем это стханно?
– Шипишь много, у тебя вместо «р» разные другие буквы получаются, то «л», то «ш». Так дети маленькие разговаривают.
– А я тоже маленькая, али не видишь. Во мне ведь два велшка от голшка.
– Ну, вот видишь, опять шипишь. Скажи – от горшка.
– Да нечем мне по-вашему лопотать. Зубов-то почитай и вовсе нету.
– А где они у тебя?
– А не хочу я тебе сказывать. Ты ж ведь не сказываешь, почему от лебенка отказываешься, и я не буду.
Надя помолчала.
– Я из-за Зотова не хочу его видеть.
– А тебе твого Зотова никто и не кажет. Тебе лебенка несут. А Зотов не тот гусь, штоб вспоминать его вечно.
– А ты что, знаешь его? – встрепенулась Надя.
– Да я всяких знаю, и таких тоже видывала. Ничего особенного, бывает и хуже, – отмахнулась Машенька.
– Нет, не бывает, – разозлилась Надя, – ты знаешь, он какой? Да он подонок похотливый, боров, да он… – Надя уткнулась в подушку и замолчала.
– Он ведь, Зотов твой, Богом обиженный, – спокойно сказала Машенька, разливая чай.
– Он не мой, – встрепенулась Надя.
– Ну не твой, – согласилась Машенька, подвигая к ней чашку с чаем. – Ты пей, пей чаек, а то плостынет. А обиду свою тешить не надо. В людях столько всего намешено, что если за все на них обижаться, то и жить станет невмоготу. А ты еще молодая, у тебя вся жизнь впеледи, и душа у тебя светлая. Тебе надо ее сохланить для добла.
– Нет у меня души, и светлого нет во мне ничего, – зло перебила ее Надя, – и жить я не хочу. Уже давно. Я ведь однажды хотела с собой покончить и с жизнью этой проклятой, да не получилось. Сюда вот угодила.
– Не глеши, милая, – голос Машеньки стал строгим, – только Господь знает, когда нам жить, а когда умилать, и ты на себя Его заботы не бели. Раз положено тебе жить и детей ложать, то так и поступай. Значит, такова воля Его. Он знает, что делает.
– Тогда спроси у своего Бога, зачем родителей моих погубили, зачем нас в эту проклятую Воркуту сослали? Может, Он знает, в чем мы провинились?
– А ты не селчай, не селчай. Бог, Он высоко, да от нас далеко. Он людям добло с небес святых посылает, да только то, что одним в ладость, длугим в тягость. Вот и получается на земле неполядок да зло несусветное, на луку сколое. Вот и Зотов, сдается мне, несчастный человек.
– Он несчастный? Это он-то? Боров жирный, – возмутилась Надя. – Да если бы ты знала, что он за человек!
– Вот и ласскажи, – подсуетилась Машенька, – тебе легче станет, да и я, глядишь, советом каким сгожусь.
– Хорошо, – согласилась Надя, – я расскажу, чтобы ты знала, какой он подлец, и больше никогда его не защищала.
Сергей Михайлович несколько раз заглядывал в палату. Он видел, как Машенька успокаивала Надю, как та, наплакавшись, начала говорить, судя по ее возбужденному лицу, о самом сокровенном. Машенька слушала, не перебивая. Поняв, что разговор будет долгим, Сергей Михайлович послал охранника в барак за кормилицей.
Прошло несколько часов, прежде чем Надя сказала Машеньке:
– Ну вот, теперь ты знаешь про меня все. Скажи, как мне дальше жить… Может, твой Бог знает и через тебя мне скажет?
– Бог знает, – вздохнула Машенька, – да только никому слова Свои не говолит, потому что пустое это… Так уж люди устлоены, что словам не верят. Делают по-своему, а потом Всевышнего поплекают. Нет у нас плава судить Его. Плидет время, Он Сам, кому надо, милость Свою плишлет. Холошего человека пожмет-пожмет да и отпустит. Ушедших не велнуть, вечная им память. А всем палачам воздастся по делам их. Своей же злобой захлебнутся. А ты не становись на них похожей. Свою жизнь живи.
– Ну, как, как мне жить с таким грузом! – отчаянно воскликнула Надя.
– А ты не с глузом, ты с Богом в душе живи, как мать твоя тебе завещала. Не у одной тебя ноша тлудная. В каждом дому есть по своему кому. Ты вота сплашивала, отчего я такая беззубая. Никому не говолила, а тебе скажу. Зубы мне в девятнадцатом году белый офицел посчитал в деникинском штабе. Я тогда по летам как ты была. Очень советскую власть защищала, почитай всю глажданскую отвоевала. А плишло время, этот же офицел, только уже в дхугом, чекистком мундире, сыночка моего у меня на глазах застхелил. Он, сыночек мой, когда меня блать плишли, на голе мое плоснулся, схватил табулетку и на обидчиков моих кинулся. Было ему всего пятнадцать лет. Эх, да не хочу я вспоминать ничего, – Машенька всхлипнула. – Ты вот тута нюни лазвела, хочу лебенка, не хочу. А была б я молодайкой, лодила бы мальца, никому б не отдала. Моим бы он был и ничьим больше. А ты поступай как знашь. Только лешай посколее, голодный он, сынок твой.
Собрав чашки, Машенька пошла в коридор.
– Скажи Сергею Михайловичу, пусть принесет… – вслед тихо сказала Надя.
Сергей вошел в палату, держа на руках живой сверток. Надя удобней устроилась в постели, и он протянул ей ребенка.
Малыш сначала неуверенно потыкался в материнскую грудь, но затем быстренько сообразил, что к чему, и зачмокал.
Глядя на Надю, кормящую своего ребенка, Сергей сказал:
– Я не знаю, о чем вы говорили с Машенькой, но догадываюсь, что в твоей короткой жизни уже была трагедия. И тем не менее… Поверь мне, я всю войну прошел. Сам не всегда знал, для чего живу. Смерти искал. А жизнь, она такая. Она простых ответов не дает. Но обязательно ответит. Не сегодня, так завтра. Тогда поймешь, что к чему. От тебя зависит. Будешь тянуть за собой прошлое, оно век твой заедать начнет, к прошлым страданиям новые прибавит.
Ты ведь хорошая, добрая девочка, тебе судьбой предназначено нести свет на земле, а ты во тьму лезешь. А там ничего хорошего нет. Одна грязь. Чем дольше ты ее перебирать будешь, тем больше она к тебе прилипать будет. Может так случиться, что и не отмоешься потом. Ты такой новой жизни хочешь?
– Простите меня. Не надо больше ничего говорить, – у Нади на глазах заблестели слезы.
Надя рассматривала своего сына, заснувшего у ее груди.
Розовое личико, черные волосики на голове. Ничто в нем не напоминало наглое лицо Зотова.
– А его уже как-то назвали? – спросила она, прижимая к себе ребенка.
– Удивляете вы меня, мамаша, – улыбнулся Крыленко. – Кто же вашего ребенка без вас именовать будет? Он у нас под номером 321 числится. Думай скорее, какое имя дашь своему первенцу.
– Не знаю, – Надя немного подумала, а потом, стесняясь собственной смелости, спросила: – А можно я его вашим именем назову?
– Милая моя девочка, – растроганный ее предложением, Сергей положил руку на Надино плечо. – Спасибо тебе за это предложение, но давай лучше назовем его именем моего отца – деревенского лекаря Михаила Ивановича, человека доброй славы и хорошего врача.
– А отчество? Какое у моего сына будет отчество? – Надя растерянно посмотрела на Сергея.
Милая голубоглазая девочка с пшеничными волосами, убранными под косынку. Ей бы в куклы играть, а у нее сын на руках.
– Отчество у него будет мое – Сергеевич, и фамилия тоже моя, Крыленко, – еще минуту назад доктор об этом не думал, но теперь был уверен, что поступать нужно именно так, потому что других способов вытащить Надю из ямы, куда она могла окончательно провалиться, у него не было.
– А это возможно? – удивленная Надя смотрела на него, прижимая к себе малыша.
– Не только возможно, но необходимо, потому что это единственное, чем я могу тебе помочь. Я, конечно, понимаю, что ты намного моложе меня, но одной тебе здесь не выжить. А когда весь этот кошмар закончится, ты сможешь поступать, как сочтешь для себя нужным. Я не буду тебя держать.
– Нет, вы не уходите, и я не уйду, – Надя взяла Сергея за руку, – мне очень страшно одной. Вы даже представить себе не можете, как мне страшно жить одной. Когда вы рядом, я ничего не боюсь и мне так спокойно. А одна я устала, устала бояться.
Крыленко сел на кровать рядом с Надей и крепко обнял ее вместе с ребенком.