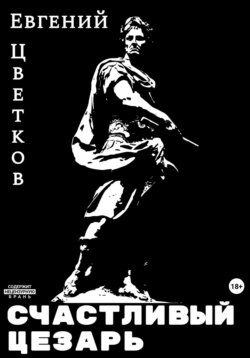Читать книгу Счастливый Цезарь - - Страница 19
Глава II. Речка Рубикон
Видение Цезаря
ОглавлениеЯ побывал в Аиде! – так начал Цезарь свой рассказ. – Аид называется Третьим Римом. И всякий, кто находится там, рождается в этом Загробье, как в самой обычной жизни. Только себя не помнишь, до поры до времени. И даже не ведаешь, что происходит вокруг на самом деле. И я – Цезарь, там родился, как все. Таково рождение в Аиде. Ты думаешь, что вокруг идет жизнь, что другой жизни нет, и даже радуешься жизненному чувству, любви, пока в какой-то миг, вдруг, не открываются глаза, и ты понимаешь, Кто ты такой и куда ты попал. Вот когда начинаются Аидовы мученья. Что может быть ужасней родиться Цезарю среди рабов. Несчастных существ, совсем перед тобой невиноватых.
О Боги! Что это была за жизнь! Эти проклятые комнатенки, в которых ютилось по несколько человек! Эти бесконечные очереди за всем, чего бы ты ни захотел. Сутолока и сумрак. Все серое, убогое, некрасивое… и звуки, это постоянное бормотанье, шарканье ног, гул странных повозок… С самого утра миллионы рабов бежали на свои рабские службы и копошились так до вечера. Вечером забивались в свои жалкие конуры, отдыхали, как могли, и утром снова бежали соответствовать великому рабству жизни. Потому что главное была не работа – а соответствие этому рабству. Были там и очень умные люди. Свое существование они очень ловко объясняли. Пусть, говорили, во внешнем мы – несвободны; зато внутри, в душе нашей и мыслях – парим!
Вот и спрашивается: если в мыслях ты – князь, а живешь рабом, – кто ты такой? Безумцы! Философы рабской жизни! Поэты, воспевающие кнут. Нет! Не передать словами этой тягостной, из мелких чешуек, дремы, которая затягивала, как грязная занавеска, души Людей! Заволакивала сознание и люди, даже хорошие, умные, в сумерках той жизни переставали различать цвета, краски пропадали, и даже черное и белое в равной мере становилось – серым.
Но самое смешное, что они, эти существа в том страшном мороке-сне, называли происходящее с ними Жизнью! Про свою загробность они и не ведали: боялись смерти, находясь в ее чертогах. Вместо того, чтобы бежать оттуда, не оглядываясь, лишь случай подвернись – скорбели о том, что придется расстаться с тюрьмой. Находясь в Аиде, боялись Аида и помещали его там, где начиналась жизнь. Все перевернули в том жутком царстве… Они спасали уродов и слабых, а сильных и талантливых уничтожали!
Больше всех мне досаждали рабы при искусстве, танцоры, поэты, ученые… Ненавидели с первого взгляда, как ненавидит разбогатевший раб разоренного хозяина. «Подумаешь! корчит из себя принца, Цезаря! – злобно так восклицали. – А мы тут хоть удавись, пляши вприсядку!»
Как они надо мной издевались, ощущая мою особенную природу! Стоило мне их приблизить или самому потянуться к ним искренне – тут же наглели и едва ли ногами не начинали попирать. Отдалюсь, бывало, – ненавидят. Мол, смотри, какой гордец, заносится! Нас за людей не считает!
И еще – чиновники, Магистраты – те сразу служивым нюхом прозревали во мне опасность, не любили сильно, однако – уважали. Даже советы давали, поучали, мол, нельзя себя так вести, как ты ведешь себя: сам в дерьме, а жесты царские, замашки! Ты очень, говорили мне, странное на других людей производишь впечатление.
Не может быть, – решил я в какой-то миг, – чтобы такая жизнь происходила Наяву. Все это мне снится, либо я в преисподней, тягостном загробном царстве, где мучения составляют главное в существовании. И все эти люди вокруг – одни лишь тени, подставленные для виду, которые истаивают от печали и смертных чувств. И все, что вижу я, – морок один, через который осуществляется мое наказание, непонятное и несправедливое.
Стал я искать путей спасенья, высматривать правильное Учреждение, где сидит Радамант или его подручный Магистрат Загробья. Чтобы потребовать, просить – отпустить меня с миром! Избавить от смертной и хладной, жуткой грезы. И чувствую – не вырваться мне, не проснуться. Самоубийство не помогло! Увы! Тут же меня возвратили к той же самой тусклой и страшной жизни этого загробного полумрака. Я понимал, конечно, что мертвым не дано себя убить. Но согласиться с тем, что я уже мертв – нет! К этому я не был готов, душа моя была жива… Понял я тогда, что в одиночку, не очнуться мне из этого сна и не избежать мучений…
– Скажи, Цезарь, а женщины в том царстве смерти были? Любил ли ты их, как любишь здесь? Любили они тебя? – стали спрашивать гости.
– Женщины там были, однако одиночества моего они не могли прогнать: ведь женщина подобна жизни, зерцало существования. А в той загробной грезе основой жизни , главной ее пружиной была нужда Жить, Быть как Все. То есть Никем и Никаким. Вот женщины и отражали в своих чувствах эту серую одинаковость. Потянется вроде, ощущая необычность мою… А после видит – нет подтвержденья высоты моей природы и отшатнется тут же. Ведь Цезарем я был лишь в личном чувстве, – я знал, Кто я. Но Знал в одиночестве.
– Скажи, Цезарь, кому там поклоняются в Аиде? Каким богам?
– В особых храмах там поклоняются невидимому Богу, единому в трех лицах.
– Как у этрусков, подобен их бог четырехликому Янусу.
– Невидимый, как у Иудеев…
– Да, боги у них иудейские, – подтвердил Цезарь. – Но наши иудеи кладут запрет на изображенье, а там, в загробье – рисуют божество и поклоняются ему через намазанный лик.
– С чем схоже изображенье их бога? Подобное Зевесу или Египетской природы?
– Их бог подобен просто человеку, в изображенье, – сказал Цезарь. – Тут какая-то тайна, ибо цель и смысл поклонения – Спасение, и жизнь иная и вечная… Все это меня и натолкнуло на отдельное подтверждение моей догадки о том, что мир и жизнь вокруг – ненастоящие. Но как их Бог спасает от смерти себя ей предавая – не понял я. Они распинают Его, чтобы потом с Ним вместе воскреснуть. Подобно Озирису или Орфею…
– Как же ты спасся, Цезарь? Неужто через иудейского божка? – захохотал Антоний.
– Ко мне явилась Муза, – ответствовал Цезарь. – Спасительная фея из тех, что прилетали к царю Нуме, в древности нашей. Она-то мне и шепнула: «Возвращайся, Цезарь! В Истории все это числиться не будет все равно! К чему страдать напрасно… Я вновь приду к тебе в достойном тебя существовании. Здесь жизни нет». – Но как мне отсюда вырваться, – воскликнул я. – Я пробовал даже убить Себя, чтобы исчезла пелена вокруг – не вышло… Как ускользнуть из подземелья?
– Убить и уничтожить можно лишь живое – а здесь ты, как мертвый, – ответила мне Муза. – Другое надо, чтобы уцелеть и выскользнуть в спасительную дверь – Признание. Хоть кто-нибудь из этой жизни должен увидеть в тебе Цезаря – тогда ты спасен.
– А ты? – спросил я. – Ты, разве, меня не узнаешь?
– Я этой жизни не принадлежу.
Сказала и растаяла. Вокруг совсем сгустились сумерки и стало глухо: ни человека рядом, ни богов… Где, средь кого мне взыск чинить признания Себя такого как я есть? И чувствую в себе нежданное вдохновение, как будто отвечает мне Музой вдохновленная душа моя и говорит – куда идти.
Стал вновь обходить загробные магистратуры, думаю, вдруг наткнусь на прозорливого. Долго бродил, пока однажды попал, видать, туда, где жребий мой поджидал меня. И магистрата увидел за странным таким столом, прямо на перекрестке жизненных дорог. К нему много путей судьбы сходилось, и люди, иль тени – не ведаю того, так и тянулись, брели каждый своим.
Пришел я к нему и прошу: Спаси, – говорю, – меня от этой жизни!
Он смотрит на меня, и вот что удивительно, вроде место он занимает и фигура есть, в особенности издалека, а в то же время, как будто место пустое, только взгляд один и чувствую на себе. «Ты – Цезарь!» – говорит он мне: вмиг признал. Я диву дался и чувствую – конец приходит моим страданиям. Тут он мне предлагает отправиться в другую географию. «Спаси меня, – прошу я. – Убери меня совсем из этой жизни… Отправь меня туда, откуда я пришел», – прошу я его.
Он и отправил. Нарисовал рукой, очертил так легко в воздухе дверцу, и дорога открылась. Я по этой дорожке и пошел. Долго шел, пока уже совсем под утро появились знакомые места и очнулся я наконец от тягостного сновидения.
Вновь с вами, друзья. И эта беседа в историю не попадет. Не попадет в историю и сегодняшняя встреча моя. Она опять явилась мне, чудесная Муза, Богиня, а Я… – не узнал ее. Да и не смог бы отдаться, как там, в Загробье. Здесь иные нас ждут заботы: когда звенят мечи – муза уходит. Наверно, Власть и Вдохновенье редко соприкасаются.
– Гениально! – закричали гости за столом, выражая всячески восторг. – Воистину ты, Цезарь, дружен с Музами…
– Увы! Если бы так, – сказал Цезарь. – К несчастью – все это голая правда.
Но вот какая странная мысль мне не дает покоя: не обманул ли меня тот Магистрат в Аиде-Сне. Взял и отправил меня, но в жизнь ненастоящую, а в нашу с вами сочиненную легенду. Ведь там, в загробном сне, откуда я вырвался при помощи вдохновенья Музы, я про себя все знал. А здесь? Кто сможет доказать, что все мы сейчас в живой и настоящей жизни? Что мы не выдумали, не сочинили сами происходящее с нами? Составили живое описание себя, событий, страстей и стали тем, Чем Кажешься! И жизнью живем сейчас мы вовсе не настоящей, а легендарной.
Внутри легенды я нахожусь про самого себя и нас всех, легенды сложившейся при нашей жизни. Вот отчего так легко было загробному Магистрату меня оттуда отправить, потому что оправил он меня не в прошлое живое, а в историю, которая, как известно, живет вечно, которую мы своим присутствием лишь оживляем в памяти человеческой.
– Цезарь! Разве не лестно человеку при жизни стать легендой! Не это ли высшее достиженье в жизни! – воскликнул Курион.
– Это ловушка, Курион, из которой не выбраться. Быть героем легенды, – тягостней нет существованья: игрушка и прихоть тех, кто сочинил тебя! Марионетка, осознающая свои дерганья и бессильная во всем, кроме страданий. Потому что страдания у тех, кто стал легендой, – сохраняются самые неподдельные, настоящие человеческие. Только никто про то не ведает! Потому что в легенде про наши страдания ничего не Написано! И вся мука – невыразима, сохраняется при тебе и переживается втихомолку, лишенная спасительного выражения, спасительных излияний человеческого горя… Легенда суха и равнодушна к своим героям. И стоит мне исполнить предначертанное – опять я попаду в тот страшный загробный Третий Рим. Потому что видение мое – не сон. И вновь буду мучиться, пока не доберусь до Страшного Магистрата, который вновь с легкостью переправит меня сюда, в то же место нашей с вами легенды… И так кружиться я буду вечно, не в силах порвать порочный круг и не ведая про ошибку, которую совершаю вновь и вновь в неведомом месте. Вот отчего, друзья мои и соратники, я оттягиваю решенье, сколь могу, ибо все равно все предначертано и будет так, как записала нежная ручка Клио.
– Цезарь, неужто вправду ты, сочинив эту прекрасную историю, хочешь заставить нас в нее поверить? – зашумели сотрапезники. – Разве в такое можно поверить?!
– Поверить трудно, – согласился Цезарь. – Меня сегодня в бане ласкала Муза, а я и не понял, тоже не поверил…
– Ха, ха, ха, – давясь от хохота, Антоний никак не мог выговорить слово: – Мууузза! – наконец прохрипел он. – Гениально!
– Муза нас может посетить в любое время и в любом месте. Меня она посетила в бане, прикинувшись рабыней, смиренно ласкала меня, а я не поверил, не понял, что это спасение мое пришло. Что стоило мне ради нее пожертвовать Легендой – и спасусь. Я ей отдался, спасительной Музе, но только на мгновенье, и тут же очнулся. Пришел в себя – Муза тотчас же меня и покинула. Магистрат, сыскали рабыню?
– Нет, Цезарь, как в воду канула…
– Прекратить поиски, здесь ее с нами давно нет.
– Мне нравится, Клянусь Богами! Наша легендарная жизнь! Скажи, чего тебе не хватает, Цезарь? По мне – тут все есть: женщины, вино, богатство, звезды, даже магистрат и тот есть… еще одна победа – и будет совсем полная Легенда!
– Ты прав, все имеется в нашей сказочной жизни, – ответил Цезарь. – Кроме одного: Надежды!
– Какой еще надежды? Разве что на победу! Я в это сильно верю!
– Надежды – на Иное! Внутри Легенды все уготовано, и быть Иного не может!
– Написанное можно дополнить! – воскликнул Курион.
– Дополнить, не переписать! Не сочинить иное, возвышенное, лишь старчески добрать уже постылой радости!
– Цезарь, в написанной легенде, истории известно все наперед. Скажи, мы победим?
– Мы победим, чтобы погибнуть, Антоний!
– Как, Цезарь, как мы погибнем? – кривлялась багровая рожа Антония, давилась смехом.
– И мне скажи, Цезарь, как суждено мне погибнуть? Скажи, Цезарь! – стали приставать подпившие друзья.
– Тебя, Антоний, погубит любовь царицы…
– Не худо, я согласен! – закричал Антоний и захохотал вновь красной своей рожей.
– Тебя, Курион, погубят собственные страсти.
– Иносказательно говоришь, Цезарь. Какую себе ты участь заготовил?
– Трагическую. Антоний, ты переживешь меня!
К вечеру у Цезаря разболелась голова. Он боялся припадка и удалился в дом, в темную, без звука комнату. Звук, свет и особенно запахи мучили его бесконечно. Боль вяло пульсировала в онемевшей голове. В горле стоял противный ком. С этого всегда начинался припадок. Он лежал, застыв, без движения, боясь пошевелиться. И старался ни о чем не думать. Каждая самая малая перемена тут же отдавалась мучительным, как зубная боль, толчком. От затылка к глазам. Казалось ему, что в голове у него приглушенно работает страшная пульсирующая машина, которая ввинчивает тонкое сверло в затылок и тщетно пытается достать острием до глазниц… Медленно, болезненно он проваливался в онемелый сон. Растянутая на липкой паутине голова погружалась вместе с темными стенами, комнатой, потолком… И где-то в дальнем отчужденном углу темно и сумрачно стояло и глядело со стороны молчаливое сознание. Привычку смотреть издалека на мир, на себя, на людей он приобрел в детстве, когда в одиноких играх вдруг останавливался и застывал ненадолго, пораженный этим странным ощущением отвлеченности. И только много времени спустя он понял, что не отвлекается и не со стороны глядит, а наоборот, уходит в себя, уходит и глядит на то, что вовсе не он. Разве это изможденное тело, вытянувшееся и застывшее от боли, – это он? Эта голова, лицо с синими дугами мигрени под запавшими глазами… Эти мысли и нелепые чувства – разве все это он? Нет! Он свободный и невидимый, легкий, без боли и муки бесстрастный свидетель собственных бед и радостей, в равной мере ненужных.
Но не оторваться, не отойти далеко! Навек привязан он невидимой нитью, навек… до скончания века. Пока не войдет он внутрь совсем, навсегда и больше не вернется. А пока ты жив – живи. Ты обязан жить! Жизнь – дар, подарок. Да и не возникало в нем особых мыслей о том, чтобы не жить. Вовсе нет. Уже давно хотел он только одного – покоя. И чего тебе надо, Цезарь? – твердят вокруг. Тебе так везет, как не везло никогда и никому. Ты баловень судьбы.
Он честолюбив и скрытен. Все эти разговоры о покое – только маска. Катон… Мчат безумные кони судьбы и тащится, волочится по земле привязанное к ним толстыми канатами обстоятельств его странное и страшное существование…
Он погружался все глубже в темное и вязкое небытие больного сна. Оставались только голоса. Катон, невыносимый в своей логике разума и морали и абсолютно глухой к логике жизни. Глупец. Ты, как вещая Кассандра, выкрикиваешь пророчества, которым никто не верит. А ты? Счастлив как Цезарь? Нет! Не мне везет. Я сплющенное, бешено прыгающее в пыли колесо. Из беды в беду. И только страшное невезение других, чужая беда спасает… Сознание устало и безнадежно старалось забыть себя, поплыть туманом. О, боги, беззвучно шепнул он, дайте счастливому Цезарю передохнуть, – шепнул и услыхал его Гипнос, темными крыльями закрыл последние оконца в больной голове…
Какая на утро отвратительная голова после припадка мигрени. Цезарь проснулся. Разбитый, с каким-то особенно тягостным ощущением жизни. «Опять жить надо», – пожалуй, этими тремя словами точней всего можно передать то удивительное состояние опустошенности и тягости бытия, которое порой приходит к нам в такие вот утренние минуты. Сама боль прошла. Голова одеревенела, онемела, мысли, как с трудом сгибающиеся на морозе пальцы, вяло и неуклюже шевелились.
Какой дикий приснился ему сон! Он сошелся с собственной матерью. К чему ужасное сновидение? Впрочем, сейчас это его не беспокоило. Он находился в том сумеречном безразличии, которое равнодушно в равной мере и к радости, и к ужасу, и к беде…
В отдалении слышался неясный говор, шум. О, неизбежные клиенты, толпящиеся в передней с раннего утра. Несчастный жребий победителя! С утра бежит он по домам тех, от кого зависит его карьера, к патрону, другу за поддержкой, сам принимает тех, кто от него зависим. Мудр и умен Лукулл. В разгаре славы плюнул на все и удалился в свои сады и зажил «как Лукулл». Как долго никто не верил ему. Все думали, что строит он козни, замышляет против государства что-то нечистое… Потому что так не бывает, чтобы добровольно отказался римлянин от борьбы, интриг, политики, карьеры… Так не бывает…
Дверь распахнулась, неслышно вошел раб.
– Проси, – вяло произнес Цезарь. – Пусть войдут. Мысль неотступно вращалась вокруг сна. К добру иль худу?
При молчании всех вокруг Цезарь принес жертву. Задумчиво глядел он на дымящиеся внутренности. Вот печень, расположенье вен, напоминающих сплетенные деревья. Нет! Ощущения беды внутри не возникало. Все ауспиции казались благоприятными. Облегченно вздохнув, он приготовился общаться с этим днем, друзьями, клиентами, откупщиками… кого там только не толпилось у властителя провинции.
Он принял решение. Главное, не вызвать подозрений. Днем посетил школу гладиаторов, как было запланировано гостеприимным магистратом Равенны. На арене то наступая, то отступая назад, в танце смерти двигались пары бойцов. Звенела сталь, время от времени рассекая со свистом воздух. Высокое синее небо горело зимним влажным холодом. Бездонное, опрокинутое на землю… Как там Гортензий? – подумал Цезарь. Еще вчера он при всех передал ему командование войском. При всех ушел от дел, чтобы отдохнуть, развлечься. Цезарь лениво глядел на танцующие пары гладиаторов. Удар, наклон, нырок и свист сухой стали, рубит холодный воздух рука, бойцам жарко…
Цезарь вздохнул. На вечер назначен ужин. Какой ужасный ему приснился сон… Но все ауспиции благоприятны. И потому голос внутри говорил: не делай! Не смей! Не надо!
Гости расположились на мягких ложах вокруг изящных резных столиков. Неторопливо текла трапеза, и так же неторопливы были слова. За едой пили мало. Кто сколько хотел, и, если отказывался гость, то не принуждали. Пили обычно после, когда еда закончена. Цезарь поднялся. Спокойным голосом пожелал всем здравствовать и попросил дождаться его возвращения. Обязательно дождаться. И удалился. Ужин продолжался. И сначала за одним, потом за другим столом уже полилось красное, как кровь, густое вино в чаши, и голоса зазвучали громче… Один за другим тихо, не привлекая внимания к себе, поднялись и последовали за Цезарем его самые верные, надежные друзья…
Бешено летит возок по темной дороге. Цезарь путал следы. Ни зги. На небе облака. И только чуть отсвечивает белая дорога. Ночь летела за ними, глушила стук копыт. Все молчали. И в темноте не видно было, хмурились или, наоборот, светились лица. Не видна тревога, и радость не видна…
– Мне приснился странный сон, – тихо сказал Цезарь. – Я сошелся с собственной матерью.
Он замолчал. Копыта выбивали глухую дробь в каменной пыли дороги.
– Это к добру, – так же тихо отозвался наконец прорицатель. – Это означает только одно. Ты снова победишь. Но в этот раз трофеем будет все государство. Мать – это отчизна, Италия. Ты станешь повелителем Рима, Цезарь, – и невидимая в ночи скользнула усмешка по лицу говорившего.
Возок резко встал, и всех качнуло вперед. Дорога кончилась. Внизу неслышно текла река, проступая темной лентой в начинавшемся рассвете. Небо быстро белело. Только что плотные сумерки еще кутали землю и смазывали контуры и различия. И вот уже тьма стремительно растекается от востока и тает, превращаясь в тонкую голубую прозрачность.
Поморщившись, Цезарь спрыгнул на землю.
Солнце еще не поднялось. Утренняя заря пылала ярко начищенной медью. Красная, жаркая полоса росла от края земли. И красные блики играли на шлемах и вычищенных панцирях воинов. Полетело короткое, хриплое, как карканье ворона, приветствие.
– Да здравствует Цезарь! Да здравствует Цезарь! – слова рубили воздух.
– Вот твоя Италия! – один из друзей взял его под руку. – Ты колеблешься?
– Поздно колебаться, – мрачно ответил Цезарь.
– Неужели ты боишься?
– Цезарь ничего не боится, – он в задумчивости смотрел на реку, за ней начиналась италийская равнина. Перейди, и конец. Не конец, а начало позорной гражданской войны, и сколько бед тем, над которыми ты хочешь властвовать…
– Твой сон. Он – вещий, Цезарь, – произнес прорицатель. – Но если ты не веришь снам, погляди на птиц и загадай.
Стайка черных точек, напоминавшая мух, парила высоко в светлом небе.
– Ну, погляди! – голос прорицателя зазвенел, – гляди!
Птицы повернули направо.
– Ура! Ра! Ра! – хрипло понеслось по равнине. Как боевые кони, солдаты нетерпеливо переступали с ноги на ногу. Вынырнувший краешек солнца ярко засиял тысячей бликов и огней, отразившись в металле.
– Что ты медлишь, Цезарь! Мы верим в твое счастье. С тобою богиня удачи. Веди нас!
– Не мне везло. Не везло другим, – пробормотал Цезарь, будто просыпаясь от какого-то своего внутреннего сновидения.
Он повернулся назад, лицом к застывшим и ждущим его приказаний железным солдатам Рима. Холодным огнем горело утреннее светило в тысячах нагрудниках.
– Ну что ж, – Цезарь вздохнул, – жребий брошен. Но видят боги, я здесь ни при чем. – Он поднял руку, взмахнул ею, и двинулись когорты, металлом разбрызгивая нежную утреннюю воду.