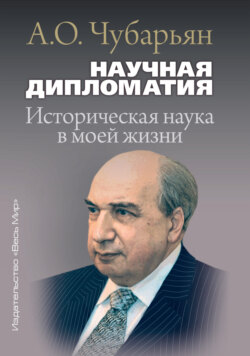Читать книгу Научная дипломатия. Историческая наука в моей жизни - - Страница 17
Часть первая
Мои воспоминания
Соединенные Штаты Америки: интерес к России Дж. Кеннан, Д. Биллингтон и другие
ОглавлениеНа определенном этапе моей жизни американское направление занимало большое место. Причем наши связи с американцами мало зависели от внешнеполитической конъюнктуры. Годы наиболее острой и жесткой конфронтации между Советским Союзом и США были одновременно и периодом интенсивных контактов «русских» и «американцев». В сфере науки существует мнение, что интерес в США к Советскому Союзу объяснялся желанием лучше понять и узнать «главного врага».
А широкие связи 1990-х годов объясняют противоположными тенденциями – желанием США лучше понять новую жизнь в России, а в России – общим желанием улучшить международный климат.
Сейчас я очень редко бываю в США, стараюсь не летать на большие расстояния, да и старые устойчивые связи с американскими партнерами уже ушли в прошлое. Но память о 1960–1980-х годах часто дает о себе знать.
Итак, все началось в 1961 году; я был научным сотрудником Института истории Академии наук, но моя первая поездка в США никак не была связана с моей научной «карьерой».
В США отправлялась делегация Комитета молодежных организаций (КМО) Советского Союза. Принцип комплектования делегации был очевидным и апробированным. Возглавлял ее зам. главного редактора «Комсомольской правды» уже известный журналист Борис Панкин; из комсомольских активистов был и зам. председателя КМО Владислав Шевченко.
В составе делегации – шахтер из Челябинска, «ответственный работник» Братской ГЭС, аспирант из Еревана, сотрудник московского филиала ЮНЕСКО и др.
После этой поездки прошло уже более 50 лет, за эти годы я объездил много стран, в том числе не раз бывал и в США, но до сих пор вспоминаю ту первую поездку в Америку с удовольствием и волнением.
Мы провели в США почти месяц, проехав страну с севера на юг, от столицы Вашингтона до Техаса. Встречались со студентами и преподавателями, жили в кампусах, хозяева устроили нам встречи с сенатором на Уолл-стрит, с представителями масс-медиа, профсоюзных, религиозных, молодежных организаций.
Я помню, что мы отправлялись в Америку с ощущением тревоги, связанной с пониманием того, что холодная война находится в самом разгаре. В США превалировали враждебность и, в лучшем случае, явное незнание того, кто же эти «неведомые русские».
Уже после этой поездки нам показалось, что многие американские молодые люди, с которыми мы общались, как бы заново открывали для себя Россию. Они увидели, что молодые представители из мало известной им России – вполне нормальные люди, с такими же интересами, как и у людей из других стран. Мы играли с американцами в кампусах в волейбол и в баскетбол, танцевали до упаду, в том числе с экзотическими для нас черными девушками. Конечно, в беседах в духе тех времен мы защищали советские порядки, наш строй и идеологические принципы. Но делали это нормально, «играючи».
Разумеется, были у нас и грустные, и острые моменты. Помню, мы были в США в самом начале мая. Тогда 1 и 2 мая были для нас светлыми днями. Но американцы именно на эти дни оставили нас одних. Из американцев был только один из сопровождающих, служитель протестантской церкви.
Мы сказали ему, что должны отметить наш советский праздник.
Денег у нас, естественно, не было. И вот вечером мы все собрались; у нас были две бутылки водки, один граненый стакан, один огурец и кусок черного хлеба. И, к ужасу американского протестанта, мы выпили обе бутылки из одного стакана, фактически без всякой закуски. И именно тогда, мне кажется, американец понял, в чем секрет «русской исключительности» и «непознаваемости».
С другой стороны, эта поездка показала нам, что американские молодые люди такие же обычные ребята, со своими страстями и интересами, и что они отнюдь не являются адептами «холодной войны».
Но, говоря о серьезных вещах, я особенно запомнил два момента.
Первое – посещение Оберлинского колледжа. Этот колледж, расположенный недалеко от Вашингтона, – один из самых престижных в США.
Там шли занятия, такие же, как и в других американских учебных заведениях подобного рода. Но именно в день нашего визита в колледже был традиционный час музыки. Оказалось, что каждую неделю все учащиеся колледжа собирались вместе, чтобы послушать музыку. Нас пригласили посетить этот зал; как обычно, в США многие молодые люди предпочитали сидеть прямо на полу.
И в полной тишине начался концерт. Приглашенные музыканты в этот день играли Бетховена и Моцарта. В те годы, да и в дальнейшем, у нас превалировало мнение о крайнем прагматизме и о потребительских настроениях американцев, насаждаемых всей системой и укладом жизни. Конечно, массовая американская культура, распространяемая по всему миру, давала для этого основание и аргументы.
Но наряду с этим – Бетховен и Моцарт, причем как обязательный час в колледже. Вспоминая сегодня об этом и в сопоставлении с впечатлениями от многочисленных будущих контактов с американцами, я вижу подтверждение глубокой противоречивости американской политической системы и культуры.
Свидетельством этого может служить и другое впечатление от той поездки. Мы посетили ряд обычных школ, и в одной из них нам показали начало занятий.
Рано утром все ученики, пришедшие в школу, выстроились во дворе, и началась обычная процедура – подъем американского флага. И это тоже были США с их системой обучения и воспитания. На сей раз это был не урок «общечеловеческих ценностей», а урок воспитания американского патриотизма.
Не будем забывать, что все это происходило на фоне конфронтации между нашими странами в ходе холодной войны.
Наша делегация, как это было тогда заведено, была «заряжена» на идеологическую защиту советских принципов и норм, а американские представители, особенно официальные лица от молодежных организаций и от средств массовой информации, жестко критиковали советские порядки и защищали ценности американской демократии.
И все же, вспоминая ту поездку, я могу сказать, что для нас она была своеобразным прорывом, размывающим распространенные клише и стереотипы. А для меня это посещение как бы подготавливало будущие частые визиты в США уже по научной линии.
Но с упомянутой поездкой у меня было связано еще одно, весьма неприятное воспоминание, оказывавшее влияние на меня в течение многих лет. После трехнедельного пребывания в США мы возвращались из Техаса в Вашингтон. Общее время полета составляло часа три-четыре. И посередине полета неожиданно салон самолета наполнился дымом. Я сидел рядом с моим коллегой из Братской ГЭС с Евгением Верещагиным (он сидел около окна). Я спросил его, что происходит, и он ответил, что мы, кажется, горим. Действительно, из иллюминатора был виден огонь, вырывающийся из двигателя.
А дальше в салоне началась паника: кто-то молился, кто-то кричал. Затем летчик объявил, что он пытается посадить самолет на ближайший аэродром. Наша делегация сидела молча, и только тот же Верещагин сказал, чтобы мы при посадке шли в хвост самолета (меньше опасности при взрыве).
Закончилось все благополучно. Мы видели из иллюминаторов, как к возможному месту посадки мчались пожарные и санитарные машины. Наконец самолет остановился без всякого взрыва.
Мы выходили из самолета; у трапа стоял капитан в белой рубашке с засученными рукавами. Помню, кто-то из наших дал капитану бутылку водки, и он при нас прямо из горла выпил полбутылки. А дальше, через три-четыре часа, на маленький военный аэродром, на котором мы приземлились, прибыл новый самолет, который довез нас до Вашингтона. На следующий день мы улетали в Москву, но с тех пор, уже в течение 50 лет, когда я сажусь в самолет (а летаю я по 5–8 раз ежегодно), довольно часто у меня в ушах слышен тот скрежет, который предшествовал пожару в самолете.
Вот на такой ноте и завершалась моя первая поездка в США.
История с самолетом не прошла даром. В Москве у меня случился приступ вестибулярного аппарата, несколько месяцев я пролежал и решил больше не летать, но честолюбие оказалось сильнее, и спустя 8 месяцев я полетел вместе с Панкиным в Канаду на конференцию. От этой поездки у меня тоже остался в памяти один эпизод.
Мы прилетели в Канаду, и сразу же нас взяли в оборот представители средств массовой информации. Основные острые вопросы касались проблем холодной войны, причем оказалось, что по телевидению это был прямой эфир. Б. Панкин тогда еще не говорил по-английски, и основная тяжесть ответов легла на меня. Впрочем, и мой английский был далек от совершенства.
Сразу же после прилета мы поехали в резиденцию советского посла, который пригласил нас на ужин. Когда мы вошли в резиденцию, наш посол сказал мне, что видел мое интервью по телевидению. С волнением я спросил у посла о его впечатлении. Посол произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал: «Глаголов было мало, но линия партийная была».
Отвлекаясь от этого шутливого эпизода, я готов повторить, что моя первая поездка в США показала, что между нашими великими державами (или, по терминологии того времени, сверхдержавами) отношения складывались весьма противоречиво. Господствовавшие во времена холодной войны непонимание, негативные образы и представления друг о друге, казалось, преодоленные после ее окончания, возрождаются снова и снова. Видимо, все-таки общее противостояние и конкуренция, возникшие сразу же после Второй мировой войны, отражают некие общие геополитические противоречия, связанные в том числе и с историческим прошлым обеих стран, их менталитетом и амбициями.
Но, возвращаясь к прошлым временам, я не могу не сказать о значительном периоде 1960–1970-х годов, когда я участвовал в сотрудничестве ученых-обществоведов наших двух стран.
В конце 1950-х годов была создана совместная советско-американская Комиссия по общественным наукам. С советской стороны Комиссию возглавлял вице-президент Академии наук, а с американской – руководитель Совета познавательных обществ. Совместная Комиссия собиралась каждый год, а иногда раз в два года попеременно в России и в США.
Помимо администраторов в заседании участвовали и ученые-гуманитарии. По линии этой Комиссии в те годы (конец 1960–1970-х годов) я ездил в США довольно часто, представляя в ней Национальный Комитет советских историков. Деятельность этой Комиссии демонстрировала особенности отношений между нашими странами в годы холодной войны. Обе стороны словно отделяли официальную конфронтацию от контактов по линии науки, образования и культуры. Фактически и в СССР, и в США отнюдь не ограничивали контактов представителей общественности. Конечно, мы понимали, что и в СССР, и в США отбирали «объекты» для посещений, дозируя их интенсивность и количество. Но все это как бы отражало более общие ограничения холодной войны, которая была и эпохой жесткой конфронтации, и одновременно в определенной степени эпохой стабильности.
Именно в те годы по линии этой Комиссии я посетил основные «русские центры» ведущих американских университетов (Гарвард, Стэнфорд, Колумбийский университет в том числе) и познакомился с теми, кто задавал тон в американской советологии. Разумеется, советские участники сталкивались с «идеологическими нападками» со стороны наших американских коллег с их явным стремлением принизить роль нашей страны в мировой истории. Но в ходе длительных общений у нас установились и личные отношения, и взаимосвязь. Я помню, что и тогда у меня вызывало большое сомнение утверждения моих известных коллег в СССР о существовании в США некоего центра, который снабжал историков США, а может быть, и всего Запада «цитатами» и фактами с соответствующей антисоветской интерпретацией, которой следовало придерживаться и в научных трудах, и в личных контактах.
Теперь я понимаю, насколько поверхностными были подобные утверждения, ибо в те годы я видел, что американские советологи типа Р. Пайпса, или А. Улама, или даже З. Бжезинского имели собственные взгляды и концепции, не нуждаясь при этом в чьих-либо рекомендациях.
Но при всем этом, очевидно, что историки США работали в той системе идеологических и политических координат, которая превалировала в США в отношении Советского Союза. Эта система лимитировала их контакты с российскими учеными и в содержании, и в формах взаимодействия. Больше всего эта система влияла на деятельность и публикации американских советологических центров. Не случайно, что в подавляющем большинстве случаев эти центры возглавлялись людьми – сторонниками более жесткого курса. Может быть, исключением был Стэнфордский университетский центр во главе с А. Даллиным.
В среде американских специалистов уже и в тот период появились молодые историки (типа Т. Эммонса или У. Розенберга), которые пытались оценивать российскую и советскую историю с более лояльных позиций. Да и в среде так называемых мэтров были историки типа А. Даллина, Р. Такера, Л. Хаймсона и других, которые были лично весьма дружественно настроены и стремились анализировать советскую историю как более сложный феномен. В перестроечные годы и в начале 1990-х годов многие из них часто бывали в Советском Союзе, а потом и в России, и мы продолжали контакты. Они были уже в другом настроении. Помню, как жена Р. Пайпса (оба они были по происхождению из Польши) говорила мне в середине 1990-х годов, что если ранее на имя Пайпса в СССР было наложено табу, то теперь различные издательства наперебой предлагают издать его книги в России.
Но, возвращаясь к временам наших контактов в 1970–1980-е годы, следует сказать, что и в среде моих советских коллег были люди весьма разных позиций. В рамках одних и тех же идеологических установок и у нас также были свои «ястребы», убежденные критики американской системы и ученые более спокойных и умеренных взглядов.
Конечно, во время больших встреч с американскими адептами с обеих сторон следовали вопросы и комментарии часто весьма жесткого характера, но было бы странным, если бы подобный стиль преобладал на рабочих или узких встречах. Кажется, такое понимание было с обеих сторон.
Наблюдая и общаясь с американскими специалистами по России и СССР, я видел довольно противоречивую картину. С одной стороны, как я уже отмечал, идеологическое и политическое влияние на всю американскую русистику и советологию было весьма сильным. Но, с другой стороны, для американских специалистов это была профессия, и заниматься ею, находясь в конфронтации или даже во враждебности к стране изучения, было малоперспективным делом.
И здесь влияли даже факторы чисто прагматические. Историки США (впрочем, и других стран) нуждались в российских и советских архивах, и даже в силу одного этого они сохраняли лояльные отношения с нашей страной и с историками Советского Союза.
Этот дуализм постоянно чувствовался, мои коллеги и я постоянно с ним сталкивались. Он накладывал определенные лимиты на характер наших отношений (и в плане конструктивного сотрудничества, и в плане идеологических разногласий).
Из контактов с американскими русистами и советологами я понял и то, что они очень хорошо знали «расстановку сил», настроения и взгляды различных советских историков. Я помню, как разволновался, когда впервые прочитал отзыв о себе одного из крупнейших германских специалистов по России Д. Гайера. Он написал его в начале 1990-х годов, спустя некоторое время после того, как я стал директором Института всеобщей истории. Гайер посчитал меня официальным историком с либеральными проявлениями.
Потом, в эпоху расцвета Интернета, я уже привык почти ежедневно читать о себе самые разные оценки и мнения. Но тогда, в 1970-е – начале 1990-х годов реагировал на подобные отклики весьма болезненно.
Вместе с тем, именно в тот период сформировался стиль общения советских и американских специалистов (и западноевропейских также), который позволял вести дискуссии и совместно обсуждать даже самые острые политические и исторические события.
Я думаю, что этот стиль, сохранивший нормальные связи и отношения, позволил в начале 1990-х годов довольно спокойно перейти на новый этап сотрудничества, когда многие прежние точки зрения наших оппонентов фактически совпадали с новыми взглядами российских историков, особенно на историю России в ХХ столетии.
Современное молодое поколение не знало, к счастью, того противостояния ученых, которое превалировало в 1960–1980-х годах. Упомянутое противостояние было характерно не только для двусторонних встреч историков, но и для мировых конгрессов. Начиная с 1990-х годов, ушла жесткая конфронтация, однако наблюдалось и снижение общественного интереса к изучению России. Мне кажется, что этим объясняется и явное снижение внимания исторической общественности к международным мировым конгрессам.
В связи с моими частыми встречами с американскими и западноевропейскими историками хотелось бы высказать некоторые наблюдения над частной жизнью зарубежных коллег. Меня всегда удивляло, как мало и редко общаются друг с другом мои американские коллеги, хотя они считали друг друга друзьями. Бывали случаи, когда я спрашивал кого-либо из них о том, как дела у того или иного из их коллег, но чаще всего узнавал, что они не только не встречались по несколько месяцев, но даже не перезванивались.
Но если это можно было объяснить в американском случае (американские ученые жили в разных городах и работали в различных университетах), то в отношении Западной Европы это часто ставило меня в тупик.
Вначале меня это удивляло, но потом я понял, что подобный стиль общения –отображение западного менталитета: индивидуализм – кредо и уклад жизни западных людей, в том числе и близких мне интеллектуалов.
Я пишу об этом еще и потому, что для меня это тоже жизненная проблема. На протяжении долгих лет у меня было множество знакомых, но весьма мало тех, кого принято называть друзьями. Но все же я привык к такому общению, когда я созванивался со своими друзьями или даже обычными знакомыми постоянно и часто. И, как правило, меня обижало, когда я не получал таких же отзвуков или звонков от моих друзей или знакомых.
Постепенно с годами я терял друзей: они или уходили из жизни совсем, или из моей жизни и моего круга общения. А просто знакомые проходили как в калейдоскопе, причем нас связывали в основном только служебные или полуофициальные отношения.
И на этом жизненном пути я уже не реагирую болезненно, как ранее, на специфику моих отношений с зарубежными коллегами. Я спокойно реагирую на то, что прежние историки разных стран меняли приоритеты знакомств. Реальная жизнь и прагматика почти всегда становятся намного важнее, чем «эфемерные» приятельские чувства.
* * *
Я упомяну имена нескольких американских специалистов по России.
Александр Даллин – профессор Стэнфордского университета, сын известного меньшевика, создал целую школу так называемых советологов. Это был приятный и доброжелательный человек, он никогда не демонстрировал какой-либо враждебности к нашей стране, неоднократно посещал Советский Союз. Его жена – Гейл Лапидус, известный историк и этнолог, также специалист по СССР, тесно сотрудничала с нашими историками. Вместе они составляли приятную пару. Неизменно мягкий, спокойный Александр Даллин по своим взглядам, видимо, исповедовал старые схемы и оценки меньшевистской историографии.
Историки школы А. Даллина, работавшие не только в Стэнфорде, но и в других американских университетах, отличались взвешенным подходом даже в самые трудные времена холодной войны. А. Даллин был одним из последних могикан того крыла американской советологии, которое сложилось в США еще в 1930-х годах. Именно под его руководством русский центр Стэнфордского университета стал одним из ведущих среди других университетов США.
Одним из наиболее известных и престижных советологических университетских центров был Гарвардский университет. Именно там (в г. Кембридж, недалеко от Бостона) в русском центре сотрудничали такие известные американские русисты, как Р. Пайпс и другие. Их деятельность определяла Гарвардский центр в качестве одного из самых консервативных и политизированных институтов.
Я много раз бывал в Гарварде; во время моих посещений руководителем Центра был Адам Улам – автор нескольких книг о советской внешней политике. Он был так жестко настроен и так напуган, что боялся посетить Советский Союз. Пожалуй, это был единственный американский специалист, который решился приехать в Россию только после 1991 года. Я встречался с ним много раз в Гарварде и был приглашен на обед в американском посольстве в Москве, когда он наконец приехал в Россию. А. Улам не был человеком компромисса; он был одним из ярких представителей наиболее жесткого крыла американской советологии. После распада СССР Гарвардский центр явно утратил свое значение, словно демонстрируя кризис американской советологии.
Последние годы своей жизни известный советский историк А. Некрич, покинувший СССР еще в конце 1970-х годов, был связан именно с Гарвардом.
Параллельно с Гарвардом и Стэнфордом большую популярность в США имел Колумбийский университет в Нью-Йорке. Факультет политологии был известен тем, что там много лет работал Збигнев Бжезинский. Именно он своим авторитетом и международными связями влиял на направленность русского центра, с которым формально не был связан. Как и Р. Пайпс в Гарварде, З. Бжезинский обеспечивал связь этих центров с официальными кругами в Вашингтоне.
Я часто бывал в Колумбийском университете, и у меня всегда было ощущение скованности и двойных стандартов его советологического центра.
Особняком стоит в США Институт Кеннана в Вашингтоне. Этот институт, созданный на средства и в память об известном американском дипломате, отце выдающегося историка и также дипломата Джорджа Кеннана, занял особое место среди американских центров по изучению России.
Я хорошо знал одного из первых руководителей института Фреда Старра. Специалист по русской архитектуре и одновременно автор книг о советском джазе, Старр прекрасно играл на саксофоне в одном из ресторанов Вашингтона. Институт много сделал для изучения нашей страны и стал одним из ведущих в США, кто определял направления исследований в области русистики и советологии.
Институт открыл много программ для стажировок, в том числе для молодых. И вообще Институт претендовал на ведущую роль в США по координации исследований России. В то же время было понятно, что Институт Кеннана, являвшийся частью Центра Вудро Вильсона, был тесно связан с правительственными кругами в Белом Доме.
С Фредом Старром я помню еще один эпизод. Наша делегация находилась в США во время очередных президентских выборов. Старр пригласил нас в день выборов в большой зал, где многочисленная аудитория следила за табло, на котором появлялись данные о ходе и результатах голосования.
Все собрание состояло из сторонников демократической партии США. Наше посольство не очень сочувствовало идее нашего похода на это собрание, но и не слишком протестовало. Я помню, как Фред Старр вышел на сцену огромного зала и под аплодисменты собравшихся объявил: «Я приветствую здесь наших русских друзей и будущего президента США». Не будем забывать, что это были годы холодной войны. Но таковы уж были реальности тех времен.
Из американцев, знакомство с которыми оставило след в моих контактах, я отметил бы также Джеймса Биллингтона – директора библиотеки Конгресса. В США эта должность весьма уважаема и почитаема. Она, как правило, дается пожизненно. Помимо этой деятельности Биллингтон был известен как большой специалист по России. Он много занимался историей русской культуры XVI–XVIII веков.
Его книга «Икона и топор» (а речь шла именно о проблемах культуры) вызвала резкие возражения и критику советской номенклатуры. В общественное сознание в Советском Союзе внедрялась мысль, что эта антитеза «Икона и топор» относилась ко всей российской и советской истории, включая и ХХ столетие.
Дж. Биллингтону фактически закрыли или ограничили въезд в Советский Союз. Но все это было наследием холодной войны. Первый раз я встретил Джеймса Биллингтона в Вашингтоне на научной встрече, посвященной российской истории.
Помню то «новшество», которое сопровождало эту встречу; дискуссия началась и продолжилась за столом во время ланча. Биллингтон сидел во главе стола и вел заседание. Это был высокий породистый джентльмен, большой знаток русской истории и культуры; сколько я его знал, он неизменно доброжелательно и с большой любовью относился к России и к своим российским коллегам.
Я сталкивался с Биллингтоном довольно часто. Позднее он сформировал проект под названием «Встречи границ» (Meeting of Frontiers) (о русской Сибири и Дальнем Востоке и контактов местных жителей и выходцев с американцами на разных этапах истории). Последний раз я встретил Биллингтона уже в 2014 году, на приеме в американском посольстве, который посол США устроил специально в честь директора библиотеки Конгресса. Биллингтон сильно сдал; было видно, что и ходил он с трудом, но взгляд был, как и прежде, проницателен.
Американская политическая жизнь всегда была противоречивой и интересной.
Когда я вспоминаю впечатления от многочисленных встреч с американскими историками и общественными деятелями, я должен назвать имя Джорджа Кеннана. Его по справедливости считают патриархом американской историографии и политологии.
Жизненный путь этого человека весьма необычен. Работая в посольстве США в Москве в качестве дипломата отнюдь не первого ранга, он приобрел широкую известность своей знаменитой «длинной телеграммой», подписанной под псевдонимом Мистер Икс, отправленной из Москвы в Вашингтон в 1946 году. Для многих историков эта телеграмма была неким «кредо холодной войны»: Дж. Кеннан сформулировал «концепцию сдерживания Советского Союза».
К этой телеграмме и ее «роли» возникновения холодной войны обращались многие историки и политологи в разных странах. Да и сам Кеннан в последующие годы в своих книгах, статьях и воспоминаниях говорил о смысле и значении этой телеграммы. Он как бы оправдывался, считая, что начало холодной войны положила отнюдь не эта телеграмма дипломата не первого ранга, и что развертывание холодной войны уже было предопределено на более высоком уровне.
Помимо истории с телеграммой Дж. Кеннан в 1950–1960-е годы вошел в американскую и мировую историографию как автор ряда книг о Советской России после революции 1917 года. Когда я начал готовить кандидатскую диссертацию о Брестском мире, то прежде всего обратился к книгам Дж. Кеннана. Я стал внимательно интересоваться его биографией. Весной 1952 года он был назначен послом США в Москве. В сентябре 1952 года уехал в отпуск и по дороге в Москву выступил на собрании в Западном Берлине, где сказал несколько слов о нарушении свободы в Советском Союзе. Узнав об этом, МИД СССР объявил посла США персоной нон грата. Это был, конечно, беспрецедентный случай, когда такие меры принимаются против посла крупнейшие державы.
Казалось, что Дж. Кеннан никогда не вернется в СССР. Но судьба распорядилась иначе. Он еще какое-то время работал на дипломатическом поприще – был послом США в Югославии. Но затем снова занялся историей. Дж. Кеннан обратился к истории русско-французского союза 1895 года и опубликовал на эту тему большую монографию. Для работы над этой книгой ему нужно было поработать в Архиве внешней политики России. Я был почти уверен, что после известных событий он не получит такого разрешения. Но в нашем МИДе проявили гибкость и благоразумие: в итоге Дж. Кеннан работал в Архиве российского МИДа.
Я встречался с Дж. Кеннаном несколько раз. Помню его кабинет в Принстоне, заваленный книгами. Посреди этих книг сидел высокий статный американец с выразительным лицом. Для него Россия – не просто место его прежней дипломатической работы, но практически большая часть жизни.
Для меня, естественно, встреча с Дж. Кеннаном была чрезвычайно важна. Мне было очень интересно понять смысл его исторического взгляда не только на Россию, но и на советский период ее истории.
Затем я встречал «патриарха» американской истории и политологии уже в нашей стране. Кеннан приехал во главе американской делегации на очередной коллоквиум советских и американских историков. Он проходил в Киеве, но по пути туда и обратно Кеннан останавливался в Москве. Дж. Кеннан самим своим присутствием вносил в обстановку встречи дух научного сотрудничества. Я был с нашей делегацией в Киеве и помню один из эпизодов. После заседания мы поехали на экскурсию; лил проливной дождь, дул холодный ветер, и когда мы вернулись в киевский отель, все чувствовали себя не очень комфортно.
Джордж Кеннан был вместе с женой, норвежкой, родом откуда-то с севера Норвегии. Кеннан рассказывал мне, что каждый год они проводили отпуск в Норвегии и обычно либо по дороге в Норвегию, либо на обратном пути заезжали в Россию.
Возвращаясь к киевской встрече, отмечу, что продрогшая супруга Джорджа спросила у меня, где поблизости есть аптека. Но Джордж сказал, что не нужно никаких лекарств, и попросил дать им обычный водки. Прошли уже десятки лет, но я до сих пор помню, как Джордж и его жена спокойно выпили по стакану водки, почти без закуски. На следующее утро за завтраком Кеннан сказал мне, указывая на супругу, что, как он и предполагал, водка оказалась лучшим лекарством, и теперь все в порядке.
Следующая встреча была в Москве, и здесь я вспоминаю другой эпизод. Академик Е.М. Жуков устроил обед в честь Джорджа Кеннана на двадцать втором этаже гостиницы «Россия». Разговор за обедом касался различных вопросов. Незадолго до визита в Москву Дж. Кеннан опубликовал свою книгу об истории русско-французского союза 1895 года. В Советском Союзе по этой же теме выходила книга нашего известного франковеда А.З. Манфреда, и Е.М. Жуков спросил у Кеннана, что он думает об этой книге. Джордж Кеннан дипломатично ответил: «Профессор Манфред описал историю этого союза глазами из Парижа, а я смотрел глазами из России». И далее, развивая идею о русской дипломатии, Кеннан отметил роль тогдашнего русского министра иностранных дел Н.Д. Гирса, которого, по словам Кеннана, явно недооценили в современной историографии. Говоря о Гирсе, Кеннан сказал то, что я запомнил на всю жизнь: «Гирс как и Громыко, вел дела очень профессионально».
В дальнейшем я еще один раз посещал Джорджа Кеннана в Принстоне, но сталкивался с этим именем довольно часто. Дело в том, что я нередко встречался с известным американским историком Джоном Гэддисом, который был учеником Кеннона и часто общался с ним. Он собирал материалы о Кеннане, мечтая написать его научную и общественно-политическую биографию. Но сам Кеннан выдвинул свое условие: он хотел, чтобы биография вышла после его ухода из жизни. Джордж Кеннан дожил до своего столетия, а Гэддис реализовал мечту и опубликовал биография Джорджа Кеннана. Эта книга действительно была издана и получила в США довольно много критических замечаний.
Джон Гэддис – один из крупнейших историков США, у него несколько книг по теории и методологии истории. Но для меня он был интересен как автор многих трудов по истории холодной войны. Я вспоминаю о нем отдельно в связи с моим сотрудничеством с американцами и европейцами в международном проекте по истории холодной войны.