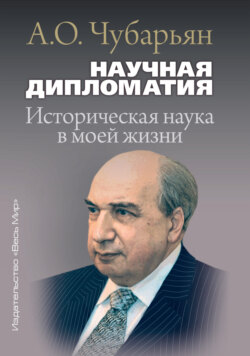Читать книгу Научная дипломатия. Историческая наука в моей жизни - - Страница 18
Часть первая
Мои воспоминания
Открытие Германии. Совместная историческая Комиссия
ОглавлениеМои столь активные и прежде контакты с немецкими учеными особенно усилились в последние 20 лет. До этого они распространялись в основном на историков ГДР. Я многократно посещал Берлин и другие города ГДР.
Нынешнему молодому поколению не понять того, что мы испытывали, когда ездили в ФРГ или в Западный Берлин (обычно поездом). Я вспоминаю, как из Восточного Берлина, пройдя дотошную проверку пограничников и таможенников ГДР, мы в поезде из Москвы в Европу (в Париж или в Брюссель) медленно пересекали Западный Берлин, не имея права открывать двери поезда и тем более выходить из вагона. Я никогда не забуду, как по дороге в Париж, когда наш поезд пересекал «границу», разделяющую Восточный и Западный Берлин, мы увидели в окно вагона музей Пергамон, железнодорожную станцию «300» и прочие достопримечательности (в те времена) Западного Берлина.
Что же до других впечатлений о Западной Германии, то я до сих пор испытываю волнение, когда поездом езжу в Кёльн. Следуя с любого направления, за 3–5 минут до прибытия на вокзал Кёльна поезд словно въезжает в знаменитый Кёльнский собор, усиливая ощущение единения мира и человечества.
Помимо историков ГДР, контакты с которыми я описал в другом разделе, я уже давно, еще в 1970–1980-х годах довольно активно сотрудничал с историками ФРГ. В этом мне помогали международные комиссии и всемирные конгрессы историков. В те годы в ФРГ в историческом сообществе были весьма популярны братья Вольфганг и Теодор Моммзены, набирал силу восходящая звезда Юрген Кока и многие другие. Они шли на смену поколению старой послевоенной немецкой гвардии – Т. Шидеру, В. Конце, К.Д. Эрдманну и другим.
Некоторых представителей этой старой гвардии я еще застал в мои молодые годы. Прежде всего это был профессор Карл Дитрих Эрдманн. Накануне и во время всемирного Конгресса историков в Москве (1970) он возглавлял Международный Комитет историков. Высокий статный немец со стальным взглядом, офицер вермахта на Восточном фронте в годы войны, Эрдманн был воплощением консервативного направления в западно-германской историографии.
На конгрессе в Москве, как я уже писал, у него произошел острый диалог с академиком В.М. Хвостовым по истории Второй мировой войны. К. Эрдманн и В.М. Хвостов как бы демонстрировали крайние оценки одного и того же события (Второй мировой войны) – жесткое осуждение советского режима и столь же категоричная апология.
Другой немецкий ученый – Ганс Якобсен – представлял иную, чем Эрдманн, позицию. Якобсен также был в советском плену, но вспоминал свою жизнь в плену с идиллическими нотками, отмечая доброжелательное отношение местного населения к немецким военнопленным. Якобсен опубликовал ряд книг, используя многочисленные документы, в том числе и российские.
Из представителей более молодого поколения я бы отметил уже упомянутых братьев Моммзенов. Вольфганг был специалистом по проблемам историографии. Я часто встречался с ним на заседаниях Международной комиссии по историографии. Он работал в Дюссельдорфе и участвовал в различных конференциях. В последний раз я видел его на конференции в Тромсё (Норвегия). Незадолго до этого Вольфганг развелся с женой и на конференцию приехал с новой супругой. Многие участники конференции хорошо знали его прежнюю супругу, и новая спутница чувствовала себя неуютно.
Вольфганг во время конференции был невеселым. Чувствовалось, что он был, как говорят, не в своей тарелке. Помню, вернувшись в Москву, я сказал своим коллегам, что Вольфганг Моммзен был не похож на себя. И как же странно устроен наш мир: спустя некоторое время я услышал, что Вольфганг утонул в море в Германии во время отпуска. Вольфганг оставил о себе память еще в одном деле: он завершил многолетнюю работу по подготовке к изданию большого тома об истории Международной организации историков.
Несомненно, одной из самых колоритных фигур в новом поколении историков был Юрген Кока. Профессор Свободного университета в Берлине, видный специалист по проблемам теории и методологии истории, бывший президентом Международного комитета историков, Кока, может быть, больше других немецких (да и не только немецких) историков обращал внимание на гражданские позиции ученых разных стран.
Я вспоминаю, как после объявления в печати о создании в России Комиссии по противодействию фальсификациям истории, Юрген Кока связался со мной и попросил объяснить ему смысл и цели этой Комиссии, добавив, что международное сообщество историков обеспокоено всем этим. Кока жестко выступал против историков ГДР после объединения Германии.
Контакты с германскими историками дали мне основания считать, что в Германии децентрализация в науке была особенно заметна, несмотря на традиционную для Германии тенденцию к усилению государственности.
Во второй половине 1990-х годов в правительственных кругах Германии и России появилась мысль о создании постоянно действующей совместной комиссии историков для обсуждения актуальных проблем истории ХХ столетия. Выбор в качестве объекта для дискуссий именно ХХ столетия, конечно, не был случайным: две мировые войны, в которых столкновение России и Германии было главным и страшным и по потерям, и по последствиям.
Я прекрасно помню тот день, когда меня пригласил на ланч заведующий отделом культуры германского МИДа г-н Брентон. Я был в командировке в Бонне. К этому времени уже проходили переговоры о возможном создании совместной российско-германской Комиссии историков. Во время переговоров возникали многие спорные вопросы.
И вот г-н Брентон хотел прояснить некоторые принципиальные и конкретные вопросы. Во время ланча я понял, в чем состояла заинтересованность немецких коллег. Мой собеседник не скрывал того, что одна из задач будущей Комиссии должна состоять в содействии максимальной открытости российских архивов для историков из Германии. Мы долго обсуждали эту и другие темы и в итоге договорились о том, чтобы в Комиссию были бы включены (с обеих сторон) руководители архивов.
И этот принцип стал обязательным при всех модификациях состава Комиссии. Такое решение устроило наших немецких партнеров. Следует при этом иметь в виду, что в те годы перемены к большей открытости российских архивов еще только начинались.
Я понял также, что развитие сотрудничества с российскими историками вполне вписывалось в общую стратегию Германии в европейских и в мировых делах. С самого начала существования Комиссии над ней был установлен патронат со стороны президента России и канцлера Германии.
В Германии деятельность немецкой части Комиссии проходила в рамках министерства внутренних дел, а в нашей стране персональный состав Комиссии утверждался Президиумом Российской Академии наук, а ее деятельность находилась в поле зрения министерства иностранных дел.
Германскую часть Комиссии возглавил известный историк, директор Института современной истории в Мюнхене Хорст Мёллер. Этот институт имел филиал в Берлине, так что Мёллер, проживающий в пригороде Мюнхена, постоянно бывал и в Берлине.
Насколько я знаю, это была самая успешная действующая Международная комиссия историков – мы не пропустили ни одного года и проводили встречи каждый год.
Я вспоминаю первый год; в Германии нас принимал Хельмут Коль. (Это было еще в Бонне). Коль рассказал, что в молодые годы он был учителем истории в средней школе и с тех пор, будучи уже в большой политике, сохранял интерес к истории.
Что касается Комиссии, то ее деятельность представляла собой действительно уникальное явление. Мы обсудили за прошедшие годы много острых тем, в том числе и по истории Второй мировой войны. Оказалось, что у нас с немецкими коллегами нет больших принципиальных разногласий. Сопредседатель с германской стороны Хорст Мёллер подтвердил, что по основным вопросам истории ХХ века позиции немецких и российских членов Комиссии очень близки.
Достаточно перечислить темы, которые мы обсуждали в Комиссии, чтобы стало ясно, насколько высок был научный и общественный уровень работы Комиссии. Это события 1939–1940 годов и пакт Молотова – Риббентропа, Сталинградская битва, германский вопрос в послевоенные годы, отношения ГДР и Советского Союза.
Через Комиссию я смог познакомиться с большим числом немецких историков. Я могу назвать Кетрин Петрофф-Энке из университета в Констанце. Специалистка по России, она создала в своем небольшом университете активно действующий Центр русистики. С этим университетом связана интересная история. В Германии, как и в России, эксперты выделяют лучшие университеты, которые получают приоритетное финансирование от министерства образования.
Я был в Констанце, когда там ждали результатов конкурса. В условиях, когда у нас в России процветала «гигантомания», тенденция к созданию огромных университетов, в Германии конкурс выиграл в числе других небольшой университет в Констанце, причем одним из факторов, обеспечивающих успех Констанца, был гуманитарный аспект, реализация на практике концепции интеграции науки и образования.
В день, когда в Берлине проходило голосование, я уезжал из Констанца. Ректор университета сказал мне, чтобы я позвонил ему вечером. Если он скажет, что они пьют пиво, то значит они проиграли, а если сообщит, что пьют вино, то это означает выигрыш. Поздно вечером я позвонил в Констанц, и ректор радостно воскликнул: «Мы пьем вино!» Я прилетел в Москву и рассказал нашему министру образования и науки, что в Германии поддерживают и небольшие университеты, но на руководителей нашего образования это не особенно подействовало.
Активными членами Комиссии с германской стороны были Хельмут Альтрихтер (из Аугсбурга, близ Мюнхена), Бернд Фауленбах (видный историк, социал-демократ) и другие.
Многие годы ответственным секретарем Комиссии с германской стороны был Эберхард Курт из министерства внутренних дел. Четкий организатор, доброжелательный человек, относящийся с явной симпатией и уважением к российским историкам, Курт внес большой вклад в успешную деятельность Комиссии.
Для меня было большим удовлетворением, когда наша совместная российско-германская Комиссия стала примером, аргументом и образцом для создания других подобных комиссий, в частности российско-литовской, российско-австрийской и даже российско-украинской.
Для немецкой историографии в целом и политологии наиболее характерны следующие главные приоритеты.
Во-первых, это жесткий «расчет» со своим нацистским прошлым. Всякие попытки оправдания нацизма встречают осуждение и отпор. В равной мере любые проявления антисемитизма в научной и образовательной сфере считаются абсолютно неприемлемыми. Мне рассказывал один профессор, что преподаватель, который однажды позволил себе антисемитское высказывание, должен был немедленно покинуть университет.
Во-вторых, в течение длительного времени германская советология, как правило, жестко критиковала «советские порядки» и многие исторические периоды и события. Многие специалисты из Западной Германии задавали тон в общем хоре советологических исследований.
В-третьих, именно немецкие историки одними из первых стали инициаторами выдвижения на первый план на национальном и на международном уровнях темы «исторической памяти». Сейчас эта тема стала одной из весьма популярных.
За последние 20 лет я как бы заново открыл для себя Германию. Я увидел и понял, что при всем немецком стремлении к централизации и порядку баварцы считают Мюнхен реально второй столицей, так же, как «северяне» рассматривают Гамбург северной столицей. В Германии по-прежнему еще не преодолено ментальное и историческое различие между Западной и Восточной частью Германии.
Для меня остается исторической загадкой, как Россия и Германия смогли преодолеть тот разрыв и противостояние, которое происходило в ХХ столетии в результате Первой и Второй мировых войн. Согласно некоторым международным опросам, касающимся образа России и ее восприятия в разных странах, наиболее благоприятные характеристики России были даны именно населением Германии.
Общение и связи с Германией позволяли мне подумать и о процессах адаптации людей различных национальностей, уехавших в другие страны.
Известно, что в Германии проживают более 3 миллионов турок и почти 1,5 миллиона приехавших из России. Многие в Германии признают, что российские граждане, переселившиеся в Германию, лучше турок смогли адаптироваться к немецкой жизни и порядкам, установив хорошие отношения с населением Германии. Для меня это было лишним доказательством того, что российские граждане принадлежат к Европе и легко воспринимают европейские порядки.
Многие годы мои зарубежные связи и поездки в основном касались Франции, Италии, США и в меньшей степени Германии. Может быть, это объяснялось тем, что я не говорю по-немецки, и мне было трудно общаться с моими коллегами из Германии.
В течение многих лет я бывал главным образом в Берлине. Но после того, как Фонд Гумбольдта дал мне стипендию, я смог посетить многие немецкие большие и маленькие города и оценил эту страну. Мне понравились уютные немецкие домики, я понимал, что немецкий менталитет, привычка немцев к порядку придавали их быту и нравам, их жизненному укладу то своеобразие, которое мы знаем с детства из немецкой литературы и истории.
Интерес к пониманию Германии для меня проявился и тогда, когда мне делали операцию в немецкой клинике в Кёльне.
В то же время за последние годы в Германии, как и во всей Европе, выросло новое поколение, оно уже имеет свою шкалу ценностей и свои приоритеты, которые часто размывают сложившиеся устои.
Сегодня очень мало отличий в стиле жизни населения маленьких городков в Германии от городков Бельгии, Австрии или даже Франции и Швейцарии. И все же немецкая профессура (особенно в гуманитарной сфере) дорожит своими традициями и национальными приоритетами. Именно эти факторы особенно привлекали меня; хотелось узнать, как и в какой степени Германия изменилась, что осталось от прежних времен, и какое место в германских современных приоритетах принадлежит России.
Весьма часто я слышал, что в геополитическом плане Германия стремится играть преобладающую роль в Европейском Союзе, используя прежде всего экономическую мощь. Но в контактах и в сотрудничестве в сфере науки и образования немецкие партнеры и коллеги не показывали подобных настроений. Трагический опыт истории ХХ столетия, как мне кажется, принципиально изменил менталитет и поведение немецкой профессуры. Я убежден, что задача российских ученых состоит в том, чтобы максимально сотрудничать с немецкими коллегами в различных областях науки и образования.
Интересной страницей моих связей с историками Германии стала совместная работа над учебным пособием для учителей истории обеих стран. Сама идея такого пособия родилась после обобщения успешного опыта деятельности совместной комиссии историков России и Германии. Помню, как мы обсуждали рутинные вопросы наших перспектив. В это время я был озабочен вопросами интеграции науки и образования в России. В воздухе уже витали идеи подготовки в России новых учебников по истории.
И я спросил моих немецких партнеров по Комиссии, как они отнеслись бы к идее о подготовке некоего совместного учебного пособия по истории для учителей средней школы. С самого начала мы отвергли возможность создания именно учебника, поскольку слишком разными были дидактические основы учебников в наших странах. Кроме того, в Германии школьное образование децентрализовано и варьируется в каждой «земле». Немецкие коллеги обещали подумать и о самой идее, и об источниках финансирования такого проекта.
Прошло несколько месяцев, и на очередном заседании Комиссии мой сопредседатель сообщил, что они согласны подготовить такое учебное пособие; при этом немецкие коллеги представили свой вариант учебного пособия в трех томах, соответственно посвященных XVIII, XIX и ХХ векам.
Мы совместно приняли своеобразный вариант подготовки томов. Во-первых, мы согласились с немецким предложением начать с истории ХХ столетия. Видимо, коллегам из Германии легче было получить финансирование именно по актуальной теме. Во-вторых, мы решили попытаться использовать необычный и максимально трудный вариант, который сильно удивил научную общественность обеих стран. Речь идет о нашем решении, что у каждой из 20 глав тома о ХХ веке будет два автора – российский и немецкий.
В общественном сознании довольно прочно утвердилось мнение о глубоком и принципиальном различии взглядов на историю (особенно ХХ века) российских и немецких историков. Однако опыт работы совместной Комиссии историков позволял констатировать совпадение точек зрения по многим аспектам событий прошлого века.
И теперь в процессе подготовки учебного пособия эта тенденция также была преобладающей. В итоге по 14 из 20 глав книги нам удалось согласовать позиции и найти консенсусное решение. Сделать это было совсем не так просто. Многие недели и даже месяцы проходили согласования между авторами. Конечно, все это требовало компромиссов с обеих сторон.
Как это ни покажется странным, но мы с Х. Мёллером сравнительно легко согласовали совместное предисловие.
Определенную трудность представляла подготовка вступительных статей к отдельным разделам. Они не были совместными, но у нас, да и у немецких коллег, были замечания к представленным текстам. Сложность в этом случае состояла и в том, что по условиям германской стороны тексты изданных томов (на русском и немецком языках) должны были быть полностью идентичными.
Целый ряд положений, особенно в тех шести текстах, по которым не удалось достичь консенсуса и по которым по каждой теме давались две параллельные статьи с разными точками зрения, вызывали возражения с российской, да и с немецкой стороны.
Между тем, в статьях немецких историков по темам о пакте Молотова – Риббентропа и восстании в ГДР 17 июня 1953 года формулировки немецких авторов были жесткими и явно неприемлемыми для российской стороны. По вопросу о пакте я обратился к профессору Петрофф-Энке с пожеланиями изменить формулировку, характеризующую политическое устройство Восточной Польши после сентября 1939 года как советский «оккупационный» и «террористический» режим. Но немецкие авторы отказались это делать, и в статье российского автора на эту тему ему пришлось высказать критику в адрес немецкого варианта статьи.
Среди тем, по которым в книге помещаются разные статьи, помимо темы о советско-германском пакте, следует назвать также события 17 июня 1953 года в ГДР, Берлинский кризис 1948 года, Парижская выставка 1937 года, перестройка в Советском Союзе и глава о Сталинградской битве.
Мы начинали работу над учебным пособием в сравнительно спокойной международной обстановке, но первый том вышел в свет уже в совершенно иной ситуации, в условиях обострения российско-германских отношений. Поэтому мне было неясно, как будет встречено издание этого труда.
Но оказалось, что реакция и в Берлине, и в Москве была необычайно положительной. На презентациях немецкого текста в Берлине в апреле 2015 года и российского в Москве в июле 2015 года было много народа, официальных лиц, звучали многочисленные приветствия.
Такие результаты стимулировали продолжение работ над двумя другими томами учебного пособия.
И эта работа успешно завершилась. Обе стороны оказались удовлетворены изданием всех трех томов, охватывающих период XVIII–XX веков. Окончанием проекта стала презентация всего трехтомника в Москве, в особняке МИД РФ на Спиридоновке 9 июля 2019 года, где были зачитаны приветствия Президента РФ В.В. Путина и канцлера ФРГ А. Меркель, что, несомненно, стало событием, учитывая далеко не простые отношения между двумя странами в тот момент.
Теперь мы думаем о других совместных немецко-российских проектах.
Мне кажется, что завершенным нами проектом открывается новая страница в международном научно-образовательном сотрудничестве в Европе. Недаром вслед за немцами к нам обратились с предложением о подготовке подобных изданий поляки и австрийцы, и в итоге мы успешно подготовили и издали три советских книги с польскими историками и один том с австрийцами.