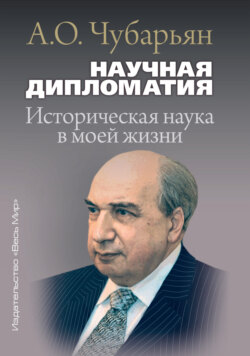Читать книгу Научная дипломатия. Историческая наука в моей жизни - - Страница 3
Часть первая
Мои воспоминания
Родители
ОглавлениеСуществует довольно банальная и расхожая истина, что все в жизни человека начинается с семьи и родительского уклада. Мое детство проходило в семье, где я – единственный ребенок – был предметом постоянного внимания и обожания. Надо прямо сказать, что, как и во многих других семьях, подобная концентрация внимания по-разному влияет на детей, но очень часто культивирует у них преувеличенное чувство собственного достоинства и даже превосходства. Оглядываясь назад, должен признать, что обстановка в семье, конечно, формировала мое ощущение, что я могу многое сделать. Я не чувствовал своего превосходства над сверстниками, но понимание известной исключительности нашей семьи, ее интеллектуального климата присутствовало во мне многие и многие годы.
Важнейшим фактором был, конечно, характер, цели и весь жизненный путь моего отца – Огана Степановича Чубарьяна. Это был гуманный человек высокой порядочности и нравственных принципов. Я никогда не видел и ни от кого не слышал, чтобы он говорил с кем-либо неуважительно, повышал голос. Он был настоящий труженик, влюбленный в книгу, которая была культом и в доме, и на работе.
Отец родился и провел детство в Ростове-на-Дону, в армянском квартале Нахичевань, и каждый год летом мы ездили в Ростов. Я хорошо помню одноэтажный домик с садом, прогулки на Дон, изумительный «залóм», которым меня угощал дедушка. Еще помню, как дедушка резал кур прямо во дворе, ловко отрубая курице голову.
В 20 лет отец приехал в Москву, где познакомился с мамой, получил библиотечное образование и с тех пор постоянно жил в Москве. Я мало ощущал его армянские корни.
Трудно писать о близких людях, особенно, когда речь идет не о личной переписке или о мемуарах, а, к примеру, о сборнике статей или воспоминаний многих людей. Я, конечно, мог бы вспомнить сотни примеров и событий из нашей жизни, ведь всю жизнь мы прожили совместно, и я никогда не расставался с родителями надолго. Уже в моем зрелом возрасте я жил с ними на одной лестничной площадке.
Все это означало, что я находился в постоянном общении с моими родителями, и перипетии моего жизненного пути были для отца с матерью постоянным и ежедневным атрибутом их собственной повседневности. Фактически каждый день мы обсуждали события минувшего дня или прошедшей недели. Только в последние 20 лет перед уходом отца из жизни мы часто расставались (хотя и ненадолго).
По характеру работы отец сам много ездил по стране и за рубеж и, как правило, брал с собой маму. Да и я с середины 1960-х годов практически по несколько раз в году ездил за границу или в другие города нашей страны на различные встречи историков.
Но и в этих случаях дома был заведен абсолютно неизменный порядок – мы каждый день разговаривали по телефону. Кстати, когда выяснялось, как дорого это обходится семейному бюджету, мы вспоминали слова отца, что эти затраты – часть жизни, такая же необходимая, как покупка одежды, еды или летние поездки на отдых.
Вообще к деньгам у моих родителей было весьма «потребительское отношение» – они считали, что деньги существуют, чтобы их тратить; поэтому, насколько я помню, у нас никогда не было больших накоплений, а меня приучили покупать книги, ездить на такси и т.п.
* * *
Я хотел бы отметить, может быть, наиболее интересные и, как мне кажется, существенные события в жизни отца и черты его характера.
Известно, что его многогранная деятельность в разных библиотеках страны, и особенно в последние годы в Ленинской библиотеке, вызывали общее одобрение и поддержку. Он отличался, я бы сказал, стратегическим видением места и роли библиотечного дела в нашей стране; его доклады всегда поражали масштабной постановкой вопросов. Библиотечное дело было, по его мнению, частью более общей проблемы развития культуры и, конечно, как это было принято в то время, связывалось с общей идеологической направленностью всей страны.
Отец обладал умением поставить даже второстепенные вопросы в более широкий контекст, соединять иногда весьма разнородные факторы и явления. Поэтому его выступления, книги и статьи, как правило, имели системный характер. Фактически, и это признавалось большинством специалистов, отец внес очень большой вклад в разработку теории библиотечного дела.
В этой связи мне вспоминается значительный период его жизни, когда в стране развернулась острая дискуссия, которая имеет определенные аналогии с нашими днями. Речь идет о соотношении библиотек и органов информации. Тогда, кажется, это было в начале 1970-х годов, в стране стали создаваться различные информационные центры, и среди ряда специалистов, а также работников правящей номенклатуры начались разговоры о том, что библиотеки как самостоятельные учреждения больше не нужны, и их следует включать в эти органы информации, которые, конечно, при том уровне технического развития в нашей стране имели весьма примитивный характер.
Я помню многочисленные страстные и острые споры, которые велись на совещаниях и в личных беседах. Эта тема превалировала и в наших домашних беседах.
Как я теперь понимаю, для отца этот вопрос был наполнен принципиальным смыслом. Он умело связывал его с общими задачами библиотек, доказывая, что они не должны потерять свою воспитательную и просветительскую функцию и утратить значение как общественный институт.
Страсти вокруг этого вопроса были накалены, и в итоге состоялось какое-то заседание, кажется, в министерстве культуры, оно и решило вопрос именно в том направлении, которое предлагал О.С. Чубарьян. Но этим, конечно, проблема не была исчерпана, поскольку все это стало предметом обсуждения уже и на международном уровне, в рамках международных организаций по библиотечным делам и по информатике.
В принципе отец был мягким человеком, абсолютно не склонным к каким-либо интригам, он не имел опыта, как теперь говорят, лоббирования того или иного вопроса. Поэтому я знаю массу примеров, когда отец оказывался фактически беззащитным, когда искушенные в интригах люди либо обходили его, либо ставили в трудное положение.
Для него было естественным и привычным открытое и прямое обсуждение; здесь он заражал людей своей логикой и умением убеждать, и в таких ситуациях его аргументы были практически неотразимы. Так произошло и с вопросом о взаимодействии библиотек и органов информации.
Но одновременно отец оказался глубоко вовлеченным и в другую, даже более принципиальную тему. Речь идет о предмете, которым он начал активно заниматься также в начале 1970-х годов – «местом и ролью чтения в современном мире и в нашей стране».
Вообще-то в узком кругу отец говорил о том, что ему не очень импонирует формулировка о советском народе как о самом «читающем в мире». Однако сама идея – раскрыть и резко поднять вопрос о роли чтения – была ему не только интересна, но и стала одной из ведущих в его деятельности. Он готовил большую монографию на эту тему, особенно привлекая тот материал, который готовился в специальном секторе социологии чтения, который под руководством В.Д. Стельмах существовал в Ленинке. Но закончить работу он не успел, и мы с мамой с помощью коллег отца издали по этой теме небольшую книгу (целиком основанную на записях отца).
Я упоминаю о проблеме чтения потому, что она снова стала не только актуальной, но и приобрела чрезвычайную остроту, особенно в контексте необычайно высокого уровня развития информационных технологий и интернетизации. Не будет преувеличением сказать, что эта проблема стала не только российской, но и мировой.
Социологические опросы показывают, что современная молодежь крайне мало читает. Об этом бьют тревогу и в России, и в Англии, и во Франции, и в других странах. По инициативе ряда российских организаций и общественных деятелей выдвигается идея формирования общенациональной программы по чтению.
Я говорю об этом здесь, потому что вспоминаю начало 70-х годов, мысленно перебираю доводы и аргументы отца, отчетливо вижу перекличку эпох и с удовлетворением отмечаю, что современные аргументации во многом напоминают идеи отца и его единомышленников.
Из общих вопросов, также волновавших отца, я бы назвал и проблему развития библиотечной сети в нашей стране. Отец, как известно, написал специальную работу об областных библиотеках, о повышении их роли и превращении в культурно-просветительские центры регионов страны.
Я также вспомнил об этом в связи с проектом создания в России Президентской библиотеки. Как член Совета по организации этой библиотеки я присутствовал на заседаниях. И на одном из них шла речь о формировании региональных центров этой библиотеки, причем, может быть, на базе существующих областных библиотек. И также, к своему большому удовлетворению, услышал от нескольких губернаторов, что главное, чтобы этот процесс не привел к ослаблению или даже к ликвидации областных библиотек, создание и функционирование которых имеет громадное значение для всей культурной и научной жизни страны и для образовательной деятельности в регионах. В этих доводах я также услышал отцовские мысли и вспомнил его деятельность по повышению роли областных библиотек.
Следующая особая для меня тема – о связях отца с библиотечной общественностью советской периферии. Не боясь впасть в преувеличение, могу сказать, что отца уважали практически все библиотечные руководители Советского Союза. У нас был всегда открытый дом; редкий день, когда к нам кто-то не приезжал. Теплые почтительные чувства к отцу и к маме испытывали директора республиканских библиотек. Их подкупали демократизм отца, его искренность и открытость. Для этого человека никогда не существовало никакого чинопочитания и чванства. Он привлекал людей не должностью, не властным превосходством, а научным авторитетом и обаянием.
Мама очень любила готовить и принимать гостей. Часто это было утомительно, но всегда приятно; я уже с раннего детства испытывал гордость за отца, за его авторитет. И то, что я с молодости понял, какие ценности и человеческие качества должны преобладать у человека, – в этом заслуга моих родителей, этому я научился у них.
Я усвоил, в частности, одно важное качество – вся жизнь отца была связана с работой, с общением с людьми. Именно от него я получил в «наследство» весьма трудную привычку, которой и мой отец, и я следую всю жизнь. Каждый год отец с мамой и со мной ездили в отпуск. Мы предпочитали Подмосковье или Рижское взморье, но при этом всегда во время отпуска отец работал. Мама часто выражала свое неудовольствие и огорчение, однако папа был непреклонен.
И сегодня окружающие меня люди имеют ко мне те же «претензии». Каждый год последние десять лет я тоже провожу в Подмосковье или за границей, предпочитая Францию или Англию, а в последние пять лет – Германию.
И я, так же, как мой отец, работаю в отпуске практически каждый день. Учитывая множество моих обязанностей, я работаю над книгами в основном именно в отпуске и написал в последние пять лет три больших монографии. И эту привычку я не могу, да и не хочу менять.
Тогда, в папины времена, средства коммуникации не играли столь значительной роли, как сегодня, поэтому папа мало говорил по телефону; дома он вообще этого избегал, особенно в отпуске. В этом отношении я сейчас попал в жизненную ловушку; помимо привычки работать, много времени уходит на телефоны (и обычные, и мобильные). Видимо, следует упорядочить все эти общения, учитывая многие факторы, в том числе и возрастные.
Еще одна сфера деятельности отца – его международные контакты. Долгие годы он был председателем международной Комиссии по библиографии, играл фактически ведущую роль в совещании директоров национальных библиотек тогдашнего «социалистического лагеря». Отец не очень любил «путешествовать» по заграницам, но, насколько я помню, он побывал практически во всех странах социализма.
Тогда была иная идеологическая атмосфера. «Старший брат» уже в силу своего положения считался лидером и фактически руководителем, в данном случае, сообщества директоров библиотек стран социализма. Но уже тогда, и особенно сейчас, для меня совершенно очевидно, что это положение отца не было только следствием отношений, сложившихся внутри социалистического лагеря.
Авторитет отца был подкреплен, а может, и более всего зависел от его личности, от уважения к нему как ученому и человеку. Когда сегодня я реализую свои функции председателя Ассоциации директоров институтов истории стран СНГ, передо мной всегда стоит пример отца. Он уважал своих зарубежных коллег, не терпел чванства и подчиненности; его главным качеством была терпимость к иным взглядам и вкусам.
Он был с ними на равных, и они платили ему той же монетой.
Уже в 70-х годах в нашем ЦК партии много занимались изучением ревизионистских настроений в социалистических странах, в том числе и в библиотечном деле. Отец, конечно, работал в той идеологической системе, в контакте с отделом ЦК. Но, как я помню, в общении отца с представителями зарубежных стран идеологические стереотипы не играли существенной роли.
Хорошо зная настроения западных коллег (например, в области истории), я всегда ощущал уважение и признание отца со стороны и западных коллег, находившихся на других идеологических позициях. Кроме того, они хорошо знали порядочность отца. Из мемуаров тогдашней заведующей отделом рукописей Ленинской библиотеки С.В. Житомирской и из архивных документов можно выделить лишь один маленький пример. В США вто время значительную активность развивал один из крупнейших американских советологов Ричард Пайпс, автор ряда трудов по истории России и Советского Союза. В процессе подготовки книг Пайпс запросил разрешение поработать в Отделе рукописей Ленинской библиотеки. И отец, который в то время исполнял обязанности директора библиотеки и хорошо понимал «образ» Пайпса в нашей стране, дал такое согласие, что вызвало резкое недовольство в идеологическом Отделе ЦК.
Я хорошо помню, какие отношения и контакты имел отец с руководителями библиотек и известными учеными библиотековедами в западных странах. И в итоге фигура отца как бы символизировала признание нашего опыта и внутри страны, и в странах социализма, и на Западе.
Путь отца к такому признанию был нелегким. Я приведу лишь несколько примеров. Наиболее трудным для него был период начала 50-х годов. В стране набирала силу кампания против космополитизма. И в ее разгар появилась разгромная статья в «Литературной газете» о библиотечном институте, о космополитическом, сионистском гнезде, которое свили космополиты в институте.
Далее следовал набор фамилий лиц еврейской национальности, которые «заняли в библиотечном институте руководящие позиции». Среди упомянутых в статье фамилий фигурировал и мой отец, который обвинялся в том, что, будучи заместителем директора, подбирал такие кадры и покровительствовал им.
Последствия этой публикации были весьма серьезными. Химкинский райком партии, в ведении которого находился институт, завел дело о библиотечном институте и персонально об О.С. Чубарьяне.
Я прекрасно помню те тревожные недели, когда отец ждал решающего заседания бюро райкома и предполагал самые различные решения, в том числе и в отношении его самого, ожидая и самого худшего. Заседание бюро откладывалось несколько раз, и в последний раз оно было назначено на 10 марта 1953 года.
Но, как мы понимаем, все изменилось после 5 марта, и больше райком партии к этому вопросу не возвращался.
Следующий серьезный кризис для отца был связан с последними годами его жизни. Фактически он был руководителем Ленинской библиотеки, но формально министерство культуры не назначало его директором, сохраняя в течение длительного времени его положение как и.о. директора. Сегодня трудно точно определить причину таких действий работников и руководителей министерства. Говорили, что в рамках тогдашних веяний в ЦК не хотели иметь на посту директора – человека с нерусской фамилией.
Но наиболее тяжелым для отца было то, что назначенный директором библиотеки человек начал всячески третировать отца, подрывал его позиции и внутри, и вовне библиотеки. А сменивший его вскоре другой директор, хотя и был учеником отца, фактически отравил ему последние годы жизни.
К сожалению, обычная человеческая несправедливость и жестокость, равнодушие чиновников и приспособленцев всегда разрушающе действует на ранимых людей, не искушенных в интригах и пасующих перед напором закулисных манипуляций.
И если можно говорить о том, что состояние нервных клеток влияет на происхождение многих, в том числе и самых страшных болезней, то я думаю, что на болезнь отца и его уход из жизни немалое воздействие оказало и его общее психологическое состояние.
Но, как я уже писал, отец был плохо приспособлен к тем методам, которые применялись против него, не хотел и не мог что-либо им противопоставить.
* * *
При постоянной загруженности организационными делами все свое внимание отец всегда уделял научной работе. Он часто использовал для своих докладов материалы, которые ему готовили сотрудники, но сами доклады, а тем более все его личные работы – книги, статьи и т.п. –писал сам, причем увлеченно, часто засиживаясь за письменным столом до глубокой ночи.
Вообще отец был необычайно четко организованным человеком. Практически каждый год – 1 января, после новогодней ночи – любимым и обязательным для него делом было составление подробного календаря своих занятий на наступающий год.
Он и меня приучил к этому; теперь я также привык к такому распорядку, и мне тоже комфортно и весьма приятно составлять расписание жизни на год.
Ярким примером организованности отца и приверженности науке может служить его поведение в годы войны. После ранения на Ленинградском фронте около 3 месяцев отец находился в госпитале в Ленинграде. Госпиталь был расположен недалеко от известной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. И каждый день после больничных процедур отец на костылях ходил в библиотеку, итогом чего стала его кандидатская диссертация на тему «Техническая книга в эпоху Петра I».
Отец был человеком, весьма чутко реагирующим на все, как теперь говорят, инновации, но одновременно он всегда следовал классическим образцам и традициям в науке, да и в жизни в целом. Он сам прекрасно изучил труды всех своих предшественников – и XIX, и ХХ вв. Такие классики библиотечного дела, как Н.А. Рубакин и Л.Б. Хавкина, всегда служили ему ориентирами.
И, как я уже писал, когда передо мной стоял выбор высшего учебного заведения после окончания средней школы, он мягко, но настойчиво советовал мне выбрать исторический факультет Московского государственного университета, который служил для отца символом академического классического образования.
В своих литературных и музыкальных пристрастиях отец также был академичен и, как бы теперь сказали, старомоден. Он часто перечитывал Толстого и Чехова, очень любил исторические романы.
Кстати, я перенял от отца любовь к мелодраматическим, сентиментальным кинофильмам, которые мы часто смотрели вместе. Мама не очень разделяла этих наших увлечений, все-таки сказывалось то, что она училась в Гнесинском училище по классу фортепиано. Она любила по вечерам, сидя за бехштейновском роялем, подаренном ее отцом, играть сонаты Бетховена и Шопена, посмеиваясь над нашими увлечениями Клавдией Шульженко или Любовью Орловой. На всю жизнь я, как и мой отец, сохранил интерес и увлечение к фильмам со счастливым концом.
* * *
Не так просто писать сегодня о политических и идеологических пристрастиях отца. Естественно, он учился, формировался и трудился в советскую эпоху. На его отношение к жизни значительное влияние оказала война. Он был призван в армию в 1942 году и был направлен в престижное офицерское училище Верховного Совета (под Москвой), которое окончил в чине лейтенанта. Мы с мамой в то время были уже в эвакуации в Челябинске.
Позднее, уже после войны, отец рассказывал, что девизом офицеров, окончивших училище, были слова: «Меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют». После окончания училища отец был направлен на Ленинградский фронт, где уже вскоре был ранен. После длительного лечения в ленинградском госпитале отец преподавал тактику в офицерском училище в освобожденной Гатчине. Для меня сам этот факт был весьма примечателен, в плане творческих возможностей отца – сугубо штатский человек сумел освоить военный предмет до такой степени, что преподавал его офицерам.
Возвращаясь к затронутой теме, отмечу, что отец всегда с большим волнением вспоминал свои военные годы и то, как он и другие участники войны защищали страну, и в этом был их патриотический долг.
Но одновременно уже в послевоенные годы отец испытал на себе (как я уже писал) идеологическое (и не только идеологическое) давление во время кампании по борьбе с космополитизмом, организованной сталинским режимом.
В последующие годы, когда отец уже был одним из руководителей библиотечного дела в стране, он, конечно, вписывался в общую систему советской политики. Он не был диссидентом, но для всех окружавших его людей всегда был образцом глубоко порядочного человека. Отец никогда никого не предавал, не участвовал ни в каких так называемых идеологических проработках, отстаивал принципы добра, справедливости, уважения иных взглядов и мнений.
Люди, работавшие под руководством отца, знали это, ощущая это в своей повседневной жизни. И все это вызывало у них уважение к отцу и желание работать вместе с ним.
Этот гуманизм, доброту и порядочность отец старался внушить и мне с самого молодого возраста.
* * *
Отдельная тема – повседневная жизнь нашей семьи. Отец был глубоко домашним человеком, все свободное время любил проводить дома – за письменным столом или в мягком удобном кресле. Он был избавлен от всех домашних забот, в том числе и от таких, как сборы перед отъездом куда-либо, коммунальные платежи, ремонт бытовой техники и т.п. – всем этим распоряжалась мама, причем это ее не тяготило, а было чем-то само собой разумеющимся.
Отец рассказывал маме и мне обо всех своих делах, он нуждался и в нашем соучастии, и в наших (особенно маминых) советах. Долгое время мы жили в очень плохих условиях, в перенаселенной квартире. Отец все это понимал, видел мамино недовольство, а иногда и ее отчаяние. Но никакая сила не могла заставить его пойти к министру или к какому-нибудь начальнику с просьбой о квартире. И так это продолжалось многие годы, пока не появились кооперативы, и мы смогли построить две квартиры в Измайлово – для родителей и для меня – на одной лестничной площадке, что в корне изменило нашу жизнь в лучшую сторону.
Я уже писал, что мама очень любила принимать гостей, и папа был этому всегда рад, мы также часто сами ходили в гости, хотя процесс длительных застолий не особенно привлекал отца. Никогда не забываю, как после обильных ужинов у кого-нибудь из гостей, мы возвращались домой, и папа, переодевшись, говорил: «Ну, теперь мы можем, оставшись втроем, с удовольствием поужинать».
Сейчас очень модно всех расспрашивать о том, какое хобби имеет тот или иной человек. Если говорить об этом применительно к отцу, то можно с полной уверенностью ответить, что отца в первую очередь интересовало все то, что было связано с книгами и близкими к ним вещам.
Именно отец был инициатором создания Московского клуба любителей миниатюрной книги. Там собирались истинные почитатели миниатюрных книг, и отец стал подлинным энтузиастом и теоретиком этого клуба. Отец написал несколько статей о роли миниатюрной книги, он сотрудничал не только со специалистами или такими же любителями в других городах России, но и со своими коллегами за рубежом. С ним переписывались коллекционеры из Венгрии, Польши, Франции и других стран.
Он был поистине счастлив, когда ему дарили какую-либо «маленькую» миниатюрную книгу, особенно если это было раритетное издание. У нас дома хранится коллекция, собранная отцом. Тогда таких книг в нашей стране издавалось сравнительно немного, но сейчас это превратилось в подлинную индустрию, и собирать книги и пополнять коллекцию стало трудным делом.
У нас дома есть еще одна удивительная коллекция – во время войны, находясь в Ленинграде, отец собирал почтовые ленинградские открытки времен войны, и сейчас я очень ценю это собрание.
Отец собрал и небольшую коллекцию старых советских бумажных денег, выпущенных в нашей стране после революции 1917 года и в 1920-е годы.
Еще одним увлечением отца было собирание марок. И здесь папа был верен себе. Он понимал, что просто собирать любые марки – это невозможная и невыполнимая задача.
Поэтому он собирал марки, выпуск и смысл которых были связаны с книгами, с юбилеями писателей и т.п.
И эта коллекция вызывает мое глубокое уважение и почитание отца за его гуманность, приверженность к памятникам культуры.
* * *
Когда я пишу об отце, о его жизни и пристрастиях, то не могу, конечно, не остановиться особо на роли моей матери. Я сам уже много повидал в своей жизни и сейчас ясно понимаю, какое огромное место во всей нашей жизни принадлежало маме – Крейне Александровне.
Я уже говорил о неприспособленности отца к решению житейских трудностей, о его ранимости, о том, каким он становился беззащитным, когда сталкивался с подлостью и закулисными интригами. Мама была той скрепой, которая наполняла нашу жизнь смыслом, возможностью и уверенностью преодоления всех трудностей.
У папы в Москве не было родственников, поэтому наша московская жизнь проходила в общении с родными моей мамы. Это были прежде всего ее три родных брата с трудной судьбой. Ее старший брат – Абрам Александрович Белкин – был хорошо известен в кругах московских филологов. Он читал прекрасные лекции по истории русской литературы XIX века (особенно о Достоевском и Чехове). В трудные годы «борьбы с космополитизмом» его уволили из Московского университета. Он работал потом в театральном институте при МХАТе. Именно у него на квартире, как я уже писал выше, будучи студентом, я познакомился с известным диссидентом Львом Копелевым. Кстати, одним из обвинений против него было как раз то, что он носил «передачи» Копелеву, когда тот был в тюрьме.
Средний брат моей мамы – Анатолий Александрович Белкин – был специалистом по экономике. Его также уволили из института, где он читал лекции. Именно с ним я был особенно дружен, и для меня было большим ударом, когда он внезапно заболел и рано ушел из жизни.
Младший из братьев Белкиных прошел войну, женился и начал усиленно работать. Но однажды, в 1948 году, возвращаясь из командировки в Подмосковье, он был убит в вагоне пригородного поезда. Эта смерть была страшным потрясением для всей семьи.
В общем, мамины братья были честными интеллигентами. И то, что с ними случилось, несомненно оказывало влияние на мое восприятие жизни. Я помню, что мама стойко переносила трудности, но я видел, что в те годы (конец 1940-х, 1950-е годы) мама с папой часто беседовали, и по обрывкам разговоров я мог понять их скепсис по отношению ко многому, что происходило в стране.
Мама была в курсе всех дел. Она сама всю жизнь работала в библиотеках, поэтому она понимала проблемы, которые волновали отца и всегда тактично давала ему советы или возражала ему. Она в молодости училась в Гнесинском институте (по классу фортепиано) и стимулировала интерес в нашей семье к эстетике и к музыкально-творческим пристрастиям. Я помню, как часто по вечерам мы отдыхали дома, а мама играла на фортепиано любимые ее произведения Шопена и Моцарта. Меня учили играть на пианино, и когда мне было лет 6–7, мама повела меня к одной из сестер Гнесиных. Я сыграл какие-то гаммы и был очень рад, когда Гнесина сказала маме – не мучайте ребенка, у его нет никакого музыкального слуха. На этом закончилось мое музыкальное образование.
Но главным для мамы была наша семья. Теперь я понимаю, каким для «еврейской мамы» был ее единственный сын. Она, конечно, влияла и на мое самоутверждение. Я вспоминаю, как тяжело и с какой экспрессией мама переживала годы, когда в течение многих лет блокировалось мое избрание в члены Академии. Кажется, для нее это был даже больший удар, чем для меня.
Но завершая описание того, что царило в нашей семье, я хотел бы особо подчеркнуть, что интеллектуальная семейная обстановка прививала мне понимание добра и зла, необходимость уважения и готовность к соглашениям и компромиссам, т.е. основные принципы, которым я старался следовать в своей жизни и работе.