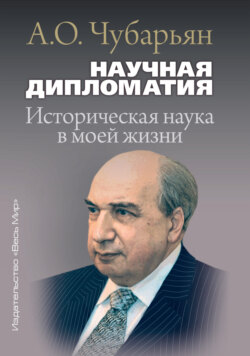Читать книгу Научная дипломатия. Историческая наука в моей жизни - - Страница 2
Часть первая
Мои воспоминания
Введение
ОглавлениеРискуя показаться банальным, я все же скажу, что на формирование человека, особенно в раннем возрасте, воздействуют многие факторы, и среди них прежде всего семья, родители, затем друзья и соседи, школа и институт. С какого-то возраста на человека начинает активно влиять общественная атмосфера, средства информации и коммуникации. И наконец, я возьму на себя смелость упомянуть и наследственный фактор. Я уверен, что гены закладывают в человеке нечто такое, что остается с ним на всю жизнь.
Я родился в Москве, и моя жизнь также навсегда оказалась связанной с Москвой. Этот огромный город, реальный мегаполис стал частью моего мироощущения. Столь большой город, да еще в течение многих лет с весьма малоорганизованной инфраструктурой (особенно в прошлом), давит на человека, утомляет его. Но для меня городская суета постоянно создавала впечатление чего-то такого, без чего жить невозможно.
За свою жизнь я объездил множество стран, но всегда меня тянуло обратно в Москву. Оказываясь в московском аэропорту или на вокзале и, бывало, раздражаясь от неустроенности и отсутствия комфорта, я тем не менее говорил себе с удовлетворением: «Я дома».
В какой-то мере город словно отравил меня, и, находясь на отдыхе, я очень быстро начинаю скучать по городской суете, по трудно переносимому ритму московской жизни, полной забот и волнений.
Обращаясь к своему детству, я вспоминаю и ту интеллектуальную среду, в которой находился с самых ранних лет.
Интерес к чтению и книге мне привили очень рано. Когда мне было пять-шесть лет, я ходил с другими мальчиками и девочками в скверик со строгой дамой, говорившей с нами по-немецки. Помню, что меня надо было заставлять играть или бегать, потому что я предпочитал сидеть с книгой в руках на скамейке и что-нибудь читать или просто смотреть картинки.
Оканчивая школу, я не колебался, куда идти учиться дальше. Мое гуманитарное призвание было определено ясно и без сомнений.
Я колебался только в одном – идти подавать документы в МГУ или в МГИМО. Думаю, что МГИМО интересовал меня в виду моей сильной политизированности с молодого возраста.
Помню, что под влиянием отца, занимаясь в школе, я составлял картотеки лидеров государств и политических партий. Часто я не мог дождаться утра, чтобы услышать по радио какую-либо новость о событиях в той или иной стране.
Мне нравилась международная деятельность, и я собирался поступать в МГИМО (тем более, что вопрос о поступлении в то время не составлял для меня трудности, так как я окончил школу с золотой медалью).
Вечером, накануне подачи документов в вуз, отец подошел ко мне и осторожно, в свойственной ему мягкой и деликатной манере, сказал, что все-таки, наверное, лучше получить настоящее классическое гуманитарное образование. И к утру я уже сделал свой выбор. Так в 1950 году я оказался на историческом факультете МГУ.
Выбор конкретной исторической специальности также не был для меня большой проблемой. В той или иной форме я знал, что займусь ХХ веком с акцентом на международные отношения и внешнюю политику.
Университетская жизнь всегда имеет свою прелесть. И, вероятно, студенческие будни и радости не давали нам возможности взглянуть поглубже на организацию лекций и на всю систему преподавания. Но не надо забывать и о том, что все мы – университет и его студенты – были частью существовавшей в стране системы и не ставили ее под сомнение.
Но когда я смотрю на те времена сегодняшними глазами, то могу сказать, что на историческом факультете ощущалось большое внутреннее напряжение. Именно в начале 1950-х годов на истфаке, как и во многих других местах, разворачивалась борьба против космополитизма, велись проработки и разоблачения.
Уже тогда мы могли различать характер лекций по древности и средневековью, да и по современности. Мягкие и лабильные характеристики С.Д. Сказкина, академический стиль А.Г. Бокщанина контрастировали с жесткими формулами Н.В. Савинченко, который читал нам курс по истории партии. Он строго следовал установкам «Краткого курса», не терпел никаких отступлений от «линии».
Но следует признать, что большинство студентов не проявляли каких-либо сомнений, хотя и не испытывали большого энтузиазма от этих лекций.
На моем мироощущении эти годы сказались весьма сильно. И опять это было связано с родителями. В конце 1952 года «Литературная газета» напечатала статью (или фельетон) о ситуации в библиотечном институте (МГБИ), где работал отец. Автор громил космополитическое гнездо в институте, называя различные фамилии, а затем специально остановился на роли моего отца. Он был тогда заместителем директора института по науке, и в фельетоне прямо указывалось, что он покрывает космополитов и должен нести ответственность.
Через пару недель отец вернулся домой очень поздно – он был вызван на бюро Химкинского райкома партии, – и я почувствовал, что дело плохо. По разговорам я понял, что отец ожидал худшего; во всяком случае он считал, что будет освобожден от работы. Но что-то не заладилось в райкоме, решающее заседание откладывалось, а затем наступил март 1953 года, и, как известно, все кампании тут же прекратились.
Но с тех пор разговоры о положении в стране, многочисленные дискуссии второй половины 1950-х и 1960-х годов перестали казаться мне чем-то имеющим отвлеченный смысл, не касающимися меня лично. И по моим домашним делам, и по учебе, а затем и по работе в Институте истории Академии наук я был активно вовлечен в общественную жизнь, что, как понимаю теперь, имело свои плюсы и минусы.
Многочисленные «политические» разговоры происходили и у нас дома, и у родственников, и у знакомых моих родителей. Именно тогда я впервые встретил Л.З. Копелева, который часто посещал квартиру родного брата моей мамы.
В 1997 году, находясь в Кёльне, я заехал к Льву Зиновьевичу (это было незадолго до его смерти), и мы вспоминали с ним то далекое, такое трудное и драматичное время. Он сказал, что помнит меня двадцатилетним студентом, жадно слушавшим разговоры о смысле жизни, о политике, о войне, а иногда и о режиме, который господствовал тогда в стране. Передо мной сидел старый человек с большой седой бородой, а я еле сдерживал слезы, вспоминая то время, мысленно видел молодого энергичного человека, только что вышедшего из тюрьмы, который открывал мне совсем другую сторону окружавшей меня жизни. Да и судьба моего дяди, в доме у которого я встречал Копелева, подогревала мой пессимизм. Дядю уволили из Московского университета, где он читал блестящие лекции.
После окончания университета я поступил в аспирантуру Института истории Академии наук, с тех пор моя жизнь оказалась связанной с этим институтом. Сначала это был объединенный институт истории, а затем, после разделения в 1968 году, Институт всеобщей истории.
Значительная часть моих научных интересов в 1950–1970-х годах была обращена на советскую внешнюю политику первых лет после Октябрьской революции, точнее, на историю двух конференций – переговоров о заключении Брестского мира 1918 года и Генуэзской конференции 1922 года.
Естественно, что сегодня есть соблазн сопоставить то, что мною было написано в те времена, с нынешними взглядами и оценками.
Когда я прочитал в одной из статей 1997 года, посвященной советской политике периода холодной войны (по новым архивным материалам), что во времена Сталина и Хрущева, Брежнева и Андропова наша внешняя политика находилась в тисках противоречий между идеологией мировой революции и национальными государственными интересами, то невольно обратился к своей докторской диссертации, опубликованной в 1972 году. Моя главная идея состояла в анализе теоретических основ советской внешней политики и в попытках обосновать тезис о том, что для Ленина центральной была дилемма – как совместить курс на поддержку мировой революции с защитой чисто национальных интересов. Кроме того, я пытался показать (насколько это было возможно в то время), что был один Ленин во время революции и другой – в начале 1920-х годов, накануне своей кончины, что не вызвало большого энтузиазма в тогдашнем Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Помню, как мой научный руководитель Г.Н. Голиков, возглавлявший тогда сектор по изучению Ленина в ИМЛ, с которым у нас сложились очень добрые дружеские отношения, прочитав мою докторскую диссертацию, сказал с сожалением: «И чему я тебя научил…»
Но скоро я увлекся другой темой, которая занимает меня до сих пор. Познакомившись с несколькими книгами зарубежных авторов по истории европейской идеи, я решил в начале 1980-х годов написать первую в нашей историографии книгу на эту тему1. С тех пор Европа и «европеизм» привлекают меня все больше и больше. Я увлеченно работал над книгой примерно три года.
Мои занятия этой темой встречали довольно скептическое отношение. В издательствах, куда я обращался с предложением об издании книги, спрашивали: «А что это такое?»
А затем последовала и более определенная реакция. На одном из международных конгрессов историков я представил доклад о проектах объединения Европы, которые существовали в России в XVIII и в XIX веках.
Когда мы вернулись в Москву, на первом же заседании по подведению итогов конгресса один из весьма известных наших историков обвинил меня в отходе от классовых позиций и в «абстрактном пацифизме».
Действительно, занятие темой об «идее Европы» ввело меня в совершенно иную проблематику. От прежней своей излишней идеологизированности я погрузился в мир других категорий и реальностей, поскольку «идея Европы» (как она трактовалась в западноевропейской историографии) была неотделима от идей пацифизма и гуманизма, от проблемы прав человека, либеральных идей и ценностей.
И с тех пор занятие историей Европы стало, пожалуй, главной сферой моих научных интересов. Мы издали в Институте пять томов «Истории Европы», выпускали ежегодник «Европейский альманах». Я участвовал в международном издании «История европейцев», много лет являлся вице-президентом Международной ассоциации новейшей истории Европы. За эти годы мне довелось участвовать во многих десятках самых разнообразных конференций и круглых столов по европейской истории и европейской идентичности.
Я посетил почти все европейские страны. Европа перестала быть для меня абстрактным географическим понятием. Как известно, это и культурно-цивилизационная общность, и родина демократических идей и ценностей, но это и эпицентр двух мировых войн и холодной войны.
По западной терминологии я должен называться «европеистом», да, собственно, я этого и не скрываю. Одна из тем, которая меня особенно занимает, – «Россия и Европа».
Россия в силу своего географического положения, народонаселения, всей своей истории и культуры служит неким цивилизационным мостом между Европой и Азией, обладает неповторимыми чертами и особенностями, в большей мере связанными с ее духовным богатством и своими культурно-цивилизационными ценностями. Определенным итогом европейских изысканий стала моя книга «Российский европеизм»2.
В ходе всех этих дискуссий для меня всегда важно ясно обозначить свою позицию. Прекрасно понимая особенности российской географии, цивилизации и культуры, я отнюдь не призываю Россию механически копировать чей-то опыт. Сейчас в России идут дискуссии о российской идентичности и о национальной идее. На многочисленных собраниях явственно обозначились различия между российскими учеными. Наши разногласия напоминают мне дискуссии середины XIX века, которые тогда также раскалывали русское общество. Россия своей историей, культурой и традициями органически связана с Европой, поэтому было бы противоестественно и просто неразумно идти против этого.
Вспоминаю 1989 год, когда я был в числе экспертов М.С. Горбачева, сопровождавших его во время визита во Францию. По программе визита Горбачев выступал в Страсбурге в Европейском парламенте. И я как эксперт, участвовал в подготовке этой речи. Никогда не забуду, как весь зал встал и приветствовал Генерального секретаря КПСС, когда он говорил об общечеловеческих ценностях, о приоритете прав человека, свободы и демократических принципов.
Я считаю, что занятия европейской историей и европейскими делами внутренне сильно повлияли на мое мироощущение или, как теперь говорят, ментальность, на мои политические пристрастия и ценностные ориентации. Они подготовили меня к тому, что я не только согласился, но и внутренне принял те перемены, которые произошли в нашей стране во второй половине 80-х годов прошлого века.
Я не собирался отрекаться от своих прежних трудов, но легко и с внутренним убеждением воспринял курс на обновление наших исторических представлений, на выработку новых подходов к истории в целом и, естественно, к истории ХХ столетия.
Считал ранее и продолжаю считаю сейчас, что прямолинейный консерватизм и нежелание что-либо менять в своих убеждениях не могут рассматриваться как достоинство и признак «цельности» мировоззрения. В сущности, вся наша жизнь и, следовательно, история – это цепь постоянных изменений и эволюций.
Ведь очевидно, что мы жили в обстановке жесткого идеологического контроля, и этот контроль велся не только извне, но и существовал внутри каждого из нас. Может, самоцензура была пострашнее любой цензуры, потому что она эрозировала человека, порождала страх, апатию и постоянную рефлексию.
Свобода и независимость для историка (как и для любого ученого), возможность самовыражения составляют такие ценности, которые превышают остальные. И это раскрепощение мне представляется одним из главных событий и моей жизни, хотя я понимаю, что наше поколение не может полностью уйти от прошлого; это удел уже следующих, более молодых поколений.
Но, конечно, вопрос о свободе и независимости не так уж прост, потому что за всем этим стоят не только проблемы методологии и психологии, но и коллизия политических и идейных пристрастий, жизненных установок, и, наконец, вся прожитая нами жизнь с ее успехами, достижениями, неудачами и ошибками. За этим стоят наши родители и друзья, жизнь которых не уходит из нашей памяти и заслуживает нашего уважения.
Возвращаясь к 1960–1970-м годам, к периоду моей работы в Институте истории Академии наук, я не могу не вспомнить, какие это были сложные годы. Научное творчество было сильно политизировано и идеологизировано. В институте проходили постоянные обсуждения и проработки. Особенно запомнились заседания, касающиеся так называемого дела А.М. Не-крича, а также наших скандинавистов (К.М. Холодковского и А.С. Кана).
Я помню и заседания, направленные против А.А. Зимина и его концепции происхождения «Слова о полку Игореве». Большая аудитория института на улице Дмитрия Ульянова была заполнена до отказа, было впечатление какого-то важного, экстраординарного политического события, а отнюдь не научного заседания. Я лично мало знал А.А. Зимина, но его убежденность, даже некоторый род фанатизма, производили впечатление.
Как это часто бывало в истории, его версия, хотя и не принятая научным сообществом, вызвала всплеск интереса к «Слову» и к новым исследованиям его истории, содержанию и структуре.
Институтская атмосфера тех лет была весьма противоречивой.
С одной стороны, в институте работали прекрасные ученые – А.З. Манфред, Б.Ф. Поршнев, С.Л. Утченко, С.Д. Сказкин, А.Н. Неусыхин и многие другие. Они превосходно знали европейскую историю, были широко образованы, умны, остроумны. С некоторыми из них у меня сложились подлинно дружеские отношения. Они знали и соблюдали тогдашние правила игры, но при этом понимали суть происходившего, знали, кто и что собой представляет. Ко многим из них, людям неординарным, в руководящих инстанциях относились без большого энтузиазма.
Но наряду с ними в институте работали и те, кто был сторонником жесткого идеологического контроля, готовым продолжать привычную практику проработок.
Впрочем, мне было заметно, что даже тогдашние руководители старались спускать на тормозах идеологические преследования.
Я вспоминаю, пожалуй, одно из самых острых заседаний тех лет – обсуждение в Отделении истории так называемого нового направления в науке (П.В. Волобуев, К.Н. Тарновский и другие).
Соответствующий отдел ЦК КПСС оказывал сильное давление, требовал принятия идеологических и организационных мер. Заседание проходило почти целый день. Но только позднее я понял, как умело и продуманно тогдашний академик-секретарь Отделения Е.М. Жуков и многие выступавшие старались избежать крайних мер, формально удовлетворить инстанции и в то же время спасти «обвиняемых» историков.
Словом, это было сложное время.
Большая часть моей научной деятельности была также связана с историей и предысторией Второй мировой войны. Вокруг этой проблемы накопилось много «горючего материала». Причем основные дискуссии были сосредоточены вокруг пакта Молотова–Риббентропа. Вскоре после окончания войны американцы опубликовали сборник документов о нацистско-советских отношениях, куда впервые поместили секретный протокол к советско-германскому пакту августа 1939 года о разделе сфер влияния в Европе. В течение многих лет советские историки отрицали наличие этого протокола, пытались усмотреть разночтения в подписи Молотова на договоре, в приложениях к нему и т.п.
Практически на всех конференциях по истории международных отношений периода Второй мировой войны зарубежные коллеги постоянно задавали нам вопросы о пакте. Я помню формулу, которую использовал академик В.М. Хвостов. Он долгие годы возглавлял историко-архивное управление МИД и, конечно, был в курсе многих дел. Вообще, это был человек своего времени и типичный представитель той системы, хотя и несколько своеобразного толка. Его отец был известным историком дореволюционной России, сам В.М. Хвостов получил прекрасное образование. Он сочетал в себе черты ученого, государственного деятеля и чиновника. Я в течение ряда лет работал с ним, когда он был директором института, а я – ученым секретарем. Он был очень требовательным человеком в отношении подчиненных, но ценил преданность делу и четкость в работе.
Так вот, на одной из конференций, кажется, это было в Западной Германии, на прямые вопросы о существовании секретного протокола В.М. Хвостов ответил: «Я этот протокол не видел». Только спустя много лет я понял смысл ответа – он явно не хотел связывать себя с какими-то обязывающими формулами.
Но вернемся к пакту. В конце 1980-х годов развернулась острая дискуссия о пакте и секретных протоколах к нему. Думаю, что не так часто не только в нашей истории, но и в истории других стран, историческими сюжетами занималось руководство страны и парламент.
Именно в это время я вплотную решил заняться периодом 1939–1941 годов. Я принимал участие во многих дискуссиях и присутствовал на заседании Съезда народных депутатов, осудившем заключение советско-германского пакта.
Особенно мне запомнилось одно драматическое заседание интеллигенции, которое проходило в середине 1989 года в Таллине. Пожалуй, я не помню большего накала страстей и столь яростных обвинений в адрес Советского Союза как на этом мероприятии. Тогда мы еще официально не признавали существование секретных протоколов к советско-германскому пакту, но все шло к этому. Я искал аргументы, пытаясь найти контакт с аудиторией, но все было напрасно. Только спустя час, за ужином, мои эстонские собеседники несколько смягчились, во всяком случае признали, что персонально ко мне их претензии мало относятся.
Я думаю, что для раскрытия исторической правды и обновления наших исторических представлений те события имели большое значение.
Важным этапом для меня стала конференция в Берлине, тогда Западном, (в здании рейхстага), посвященная 50-летию начала войны, с участием многих представителей западногерманской исторической элиты. На конференции с приветствием к участникам обратился канцлер Г. Коль. Здесь я делал доклад о пакте Молотова–Риббентропа; здесь же я впервые после его отъезда из страны увидел А.М. Некрича, ранее мной упомянутого, известного историка, в прошлом сотрудника нашего института.
Позднее я опубликовал ряд статей на тему пакта Молотова–Риббентропа; много раз работал в архиве Public Record Ofif ce в Лондоне и в архиве французского министерства иностранных дел. Разумеется, работал я и в наших архивах, в том числе в Президентском.
По этому периоду я уже опубликовал статьи по советско-финляндской войне, по советской политике в сентябре–октябре 1939 года, и, наконец, в 2008 году издал большую книгу о Сталине периода 1939–1941 годов3.
Но занятия этой проблемой имели не только чисто научный смысл. Они ввели меня в круг общественных дискуссий, познакомили со многими людьми.
В этих работах и, главным образом, в упомянутой книге я стремился изложить свое представление о событиях той драматической эпохи. Моя основная мысль заключается в том, что события того времени (как, впрочем, и других периодов) – это сложная и противоречивая, многофакторная и многовариантная история.
Я предполагал, что моя «центристская» позиция в объяснении таких сложных и идеологически острых вопросов вызовет критику и «слева», и «справа», но изложил все так, как это тогда понимал. А что касается критики, то, как я представляю, это судьба всех тех, кто исповедует срединную позицию, стараясь избегать крайности и односторонности.
Думаю, что в оценке предвоенных событий, как и во многих других случаях, мы уже прошли период излишних эмоций и крайностей. И сегодня мы нуждаемся в синтезе, в понимании всей сложности событий того времени. Определив наши гражданские позиции, мы как историки должны в комплексе рассмотреть и геополитические факторы советской политики, позицию западных стран и влияние идеологии, вопросы морали и права и воздействие личностей на формирование и реализацию внешнеполитического курса. В этом плане большая международная конференция, посвященная периоду 1939–1941 годов, которую мы провели в Москве в начале 1996 года, имела чрезвычайно большое значение. На ней мы как бы подвели итоги нашей работы по исследованию российских архивов и определили программу на будущее.
Думаю, что аргументированные выступления наших коллег из Германии и США, да и российских специалистов, расставили точки над «i» и в истории с версией В. Суворова (Резуна) о том, что Сталин якобы готовил превентивное нападение на Германию в июле 1941 года. Серьезных документов и доказательств в подтверждение этой версии не было обнаружено ни в наших архивах, ни в архивах других стран.
Но исследование всего этого времени несомненно будет продолжаться, ибо это был один из самых драматичных периодов в истории ХХ века. Прошло ведь уже 80 лет, но и по сей день во многих странах создаются все новые и новые труды, ведутся поиски новых документов.
Видимо, такие критические периоды в истории, как Вторая мировая и Великая Отечественная войны, становятся «вечной» и постоянной темой, привлекающей внимание историков. И особенно это важно для нашей страны и историографии, учитывая множество версий, оценок и позиций, и недоступность в прошлом многих документов, и, наконец, то, что некоторые последствия того времени мы ощущаем и сегодня (наши споры с прибалтийскими странами об оценке событий 1940 года и т.д.).
Мои занятия проблемами внешней политики и международных отношений развивались по двум направлениям. Помимо событий 1939–1945 годов я начал активно интересоваться историей холодной войны.
Все началось с того, что в институт обратился исполнительный директор проекта по истории холодной войны Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне Джим Хершберг. Он предложил нам длительное сотрудничество в реализации проекта. И в результате в 1993 году мы провели в Москве большую и представительную конференцию о новых документах (в основном из российских архивов) и новом взгляде на историю холодной войны.
Эта тема привлекала внимание многих международных и национальных организаций. Помимо упомянутого проекта в Центре Вудро Вильсона в США существовали и другие центры по изучению холодной войны. В Европе группа ученых из Италии, Франции, Англии и Германии также создали некую структуру и периодически организовывали конференции. В Чехии интересуются прежде всего событиями 1968 года, в Венгрии был создан специальный институт по изучению революции 1956 года, поляки исследовали события 1980–1981 годов.
Я рад, что наш институт стал головным, во многом определяющим центром по изучению в России истории холодной войны. Мы организовали специальную группу, привлекли молодых историков, провели две конференции по теме «Сталин и холодная война». В Институте всеобщей истории РАН по итогам этих конференций опубликованы работы: «Холодная война: новые документы и подходы» (1994) и «Сталин и холодная война» (1998).
И постепенно, с расширением сферы нашей вовлеченности в изучение истории холодной войны, я сам также все больше увлекался этой темой. Для конференции в Эссене я сумел поработать в президентском архиве по обстоятельствам подготовки известной советской ноты по германским делам в марте 1952 года.
Еще во времена М.С. Горбачева по поручению тогдашних властей я отвозил в Прагу комплекс документов о событиях 1968 года из наших архивов и принял участие в конференции с участием А. Дубчека и других деятелей Пражской весны. Это была очень интересная конференция; меня поразил тогда сам Дубчек – он оставался романтиком, приверженцем идеи «социализма с человеческим лицом». И уже тогда я видел, что новое поколение чешских политиков и ученых смотрели на Дубчека и его единомышленников как на утопистов и людей далекой прошлой эпохи.
В 1995 году в Осло мы провели совместно с Нобелевским институтом (который тоже имел специальную программу по истории холодной войны) конференцию об обстоятельствах ввода советских войск в Афганистан.
Мы привезли на конференцию в Осло большую делегацию, включая бывших партийных функционеров, крупных военных и дипломатов; от американцев были прежний руководитель ЦРУ, люди, близкие к Картеру и Бжезинскому. Интересно, что степень противоречий между российскими и американскими участниками были порой ниже, чем между представителями России. Наши «ответственные» генералы и партийные функционеры явно не одобряли «новые мышления» историков, велик был их критический запал в отношении тогдашнего советского руководства. Подробнее об этой конференции я рассказываю в разделе о проектах по истории холодной войны.
Наконец по приглашению телекомпании Си-эн-эн в США и известного деятеля и владельца лондонского театра «Ковент-Гарден» Джереми Айзекса в Англии я согласился участвовать как консультант от России в подготовке восемнадцатисерийного документального фильма об истории холодной войны. Эта работа оказалась увлекательной и интересной. Специально подобранная команда проводила опросы в разных странах. Я поражался, какое количество людей они нашли в России. Здесь и маршалы, и бывшие министры, и дипломаты, и простые колхозники. В итоге фильм получился весьма интересным. Он продавался Си-эн-эн в разные страны (естественно, за немалые деньги), впрочем, российскому телевидению этот фильм руководство Си-эн-эн подарило
В ходе работы над фильмом для меня особый интерес состоял еще и в том, что я находился в курсе многочисленных интервью, подготовленных в разных странах. Мне периодически привозили в Москву уже отснятые кадры; словом, это оказалось новой и несколько неожиданной стороной исторического знания.
В связи с этим я очень заинтересовался так называемой устной историей. В Институте всеобщей истории мы организовали специальный проект и записывали интервью со многими нашими политиками, дипломатами, учеными, военными и другими деятелями.
В итоге я очень сильно и глубоко вник и в эту проблематику. Помимо чисто конкретных и весьма увлекательных материалов я занялся теоретическими проблемами, находящимися фактически на стыке истории и политологии.
Но в связи с этим меня заинтересовал вопрос о механизме и процессе принятия решений в советском руководстве в кризисных ситуациях периода холодной войны. Я прочитал лекцию на эту тему в Нобелевском институте в Осло и закончил большую статью, пытаясь рассмотреть процесс принятия решений на четырех примерах: плана Маршалла, советской ноты по германским делам в марте 1952 года, ввода войск в Чехословакию в августе 1968 года и в Афганистан в 1979 году.
В процессе своей работы и во время реализации разных проектов я познакомился с десятками людей – участниками событий периода холодной войны, как из нашей страны, так и со стороны Запада. Среди них – бывший председатель КГБ и руководитель ЦРУ, руководители советского МИДа и американского Государственного департамента, ведущие советские и западные дипломаты.
Проект устной истории позволил не только собрать воспоминания участников, но и самому снова обратиться к обстановке тех лет, свидетелем которых было наше поколение.
Как историк я открывал для себя новую в отечественной историографии тему – изучение процесса принятия внешнеполитических решений, главным образом в советском руководстве; получил возможность поработать в наших архивах и в итоге поставить некоторые общие вопросы теории и методологии международных отношений второй половины ХХ столетия.
Было очевидно, что есть еще очень много неразгаданных историй – упомяну только дискуссии вокруг так называемой инициативы Берии по германскому вопросу в 1952–1953 годах, намеки в документах на некоторые взаимные движения навстречу друг другу Черчилля и Сталина в 1947–1948 годах (т.е. в самом остром периоде начала холодной войны), неясный поворот в намерениях советских лидеров в отношении Афганистана в 1979 году (от твердого заявления ни в коем случае не использовать наши войска до неожиданного решения в декабре 1979 года осуществить ввод войск) и другие важные темы.
Реализация проектов по истории холодной войны значительно расширила международные контакты Института всеобщей истории РАН и мои личные связи со многими историками.
Впрочем, международная деятельность и раньше составляла чрезвычайно важный компонент моей работы, оказала большое влияние на меня как на историка, воздействовала и на мою общественную позицию.
Впервые я поехал на мировой конгресс историков в 1965 году в Вену. Я был секретарем нашей делегации и работал в постоянном контакте с академиком А.А. Губером. Это был обаятельный человек, перенесший страшную трагедию (его сын утонул у него на глазах), и общение с ним было в высшей степени приятным и полезным. Теперь это кажется просто смешным, но тогда нам надо было учиться общаться с нашими «идеологическими оппонентами». Подробно о нашем участии в мировых конгрессах я пишу ниже, а здесь хотел бы рассказать об особой роли академика А.А. Губера.
Александр Андреевич Губер был председателем Национального комитета историков и в этом качестве участвовал во всех заседаниях в ЦК партии и других инстанциях. И я потом видел Губера, так сказать, «в деле», на самих конгрессах. Конечно, это была отличная школа. Александр Андреевич амортизировал жесткие идеологические разногласия, он старался не спорить с «инстанциями», но реально на конгрессах в советской делегации царила обстановка деловитости и доброжелательности, без навязывания и проработок.
Губер стал для меня примером в том, как надо вести себя с зарубежными партнерами. Он защищал интересы советской страны, но и искал с западными партнерами общий язык и общие решения. Думаю, что в сложных условиях того времени А.А. Губер представлялся нашим зарубежным коллегам приемлемым партнером и собеседником.
После мирового конгресса историков в Москве в 1970 году я практически был вовлечен уже во все международные контакты наших историков. Вначале в качестве ученого секретаря, а затем многие годы как заместитель Председателя Национального комитета советских, а затем и российских историков. Я участвовал в подготовке и организации мировых конгрессов историков в Вене (1965), Москве (1970), Сан-Франциско (1975), Бухаресте (1980), Штутгарте (1985), Мадриде (1990), Монреале (1995), Осло (2000), Амстердаме (2010), многих двусторонних встреч с историками США, Англии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Польши, Чехословакии и других стран.
В течение многих лет я работал в Национальном комитете с академиком Е.М. Жуковым, а затем длительное время – с академиком С.Л. Тихвинским.
Поездки с Сергеем Леонидовичем Тихвинским на многие заседания бюро и Генеральной Ассамблеи Международного Комитета исторических наук (МКИН) стали для меня отличной школой.
Я видел, как умело, принципиально и вместе с тем очень тактично вел С.Л. Тихвинский переговоры со своими коллегами, добиваясь повышения престижа нашей науки и заслуживая уважение многих представителей зарубежной исторической науки.
С 1990 года я сам стал членом бюро МКИНа, а с 1995 года по 2000 год был вице-президентом этой самой крупной мировой организации исторической науки. Более подробно я описал эти вопросы в разделах, посвященных деятельности МКИН и моего участия в его работе, но некоторых моментов стоит коснуться и в этом «Введении».
Многим памятно, сколь острыми и непростыми были наши встречи с зарубежными историками.
Я не забыл, например, как напряженно проходила подготовка к Международному конгрессу историков в Москве в 1970 году. Постоянные заседания в Отделе науки Центрального Комитета партии, рассмотрение всех дискуссий сквозь призму идеологической борьбы – составляли фон, на котором в течение нескольких месяцев мы готовились к конгрессу.
Нечто похожее проходило и во время других не столь крупных встреч. Справедливости ради надо сказать и о том, что наши западные партнеры так же довольно жестко и весьма идеологизированно относились к нашим концепциям.
Я увидел, так сказать, «в деле» гражданскую позицию известного польского историка, президента Международного Комитета исторических наук и президента Польской академии Александра Гейштора. Группа венгерских историков – специалистов по экономической истории Ж. Пах, Д. Ранке и И. Берендт – воплощала в себе новые тенденции в историографии. С ними активно сотрудничали наши академики И.Д. Ковальченко и В.А. Виноградов. Я знал многих моих коллег-соотечественников, которые испытывали тогда такие же чувства и настроения. Поэтому, когда в конце 1980-х годов мы заговорили о том, что советские ученые должны стать частью мирового сообщества, для меня это было и естественной программой действий, и одновременно запоздалой формулой.
Но международная сфера не ограничивалась для меня лишь профессиональной деятельностью. В течение многих лет я был активно связан с Комитетом молодежных организаций СССР, с Пагуошским движением ученых, с Комитетом за европейскую безопасность и сотрудничество. Эта сфера познакомила меня с десятками людей и в нашей стране, и за рубежом, также подталкивая к мыслям о нашей органической связи с мировой общественностью.
Из многочисленных поездок и встреч я особенно хотел бы выделить две.
В 1961 году в составе молодежной группы (нас было семь человек) мы проехали по многим американским университетам от Вашингтона до Техаса, провели десятки встреч. Не будем забывать – это был один из самых острых периодов холодной войны. И, может, впервые я реально почувствовал, что между нами – молодыми людьми СССР и США – нет особых противоречий, что существуют те самые общие ценности.
И вторая поездка состоялась через несколько лет – в Брюссель. Я был в составе небольшой молодежной делегации, которая направлялась на встречу с лидерами молодых социалистов Бельгии.
Перед отъездом в Москве в ЦК комсомола и в ЦК партии нам подробно объяснили, какая «ценностная» пропасть разделяет коммунистов и западных социал-демократов. Но поездка снова дала мне возможность поразмышлять о сущности западной социал-демократии; я увидел, что она пользуется широкой общественной поддержкой. Все эти многочисленные контакты по общественной линии укрепляли мое устремление к нашему включению в мировое сообщество.
В конце 80-х годов наша историография отходила от идей и практики конфронтации, мы все чаще находили общий язык с нашими зарубежными партнерами не только по конкретным историческим проблемам методологии и философии науки. Мы как бы заново открывали идеи и концепции Макса Вебера и Арнольда Тойнби, Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше, Николая Бердяева и Владимира Соловьева. И в этом смысле мы действительно по-иному включались в мировое сообщество историков.
Я уже писал, что вся моя научная деятельность в той или иной мере была связана с Институтом истории, затем с Институтом всеобщей истории Академии наук. Совершенно новый этап наступил после моего избрания директором Института всеобщей истории. И дело было не в том, что я обрел новые обязанности и ответственность; у меня появилась возможность реализовать многие идеи и мое видение места и роли института в общей системе исторического знания в стране. В связи с этим я хочу сказать несколько слов еще по одному вопросу.
По роду своей работы в Национальном комитете историков я очень часто бывал в контакте с сотрудниками Центрального Комитета партии; там работали разные люди, с различными характерами и склонностями, со многими из них у меня были хорошие отношения. Но дело было не в людях. Почти всегда возникало ощущение какой-то зависимости от «высшей силы», которая могла многое разрешить или запретить. Я не могу пожаловаться на какие-то большие притеснения, но меня не оставляла мысль, что для моей деятельности постоянно существовали некие лимиты и пределы, которые я не мог переступить, и это вызывало чувство неуверенности и сомнения.
Последним и, может, самым серьезным проявлением эпохи лично для меня стали обстоятельства моего утверждения директором Института всеобщей истории в 1988 году.
Сначала были выборы, первые реальные выборы в нашем институте. Было три кандидата, велась честная борьба; мы представляли разные программы, старались мобилизовать наши силы, способности и возможности, т.е. все происходило так, как и при любых выборах с несколькими кандидатами, к чему мы сейчас уже привыкли.
Я был избран с большим преимуществом и испытывал естественное чувство удовлетворения. А дальше началось нечто не очень понятное. Меня не утверждали несколько месяцев – тогда еще продолжала существовать система утверждения директоров институтов в высших инстанциях.
И опять у меня возникло ощущение постоянных «лимитов» в отношении меня, за которые пускать было не положено.
Один из академиков, а это был Евгений Максимович Примаков, с которым у меня были хорошие отношения, по своей инициативе позвонил тогдашнему секретарю ЦК по идеологии, и тот, как мне рассказывали, без особого энтузиазма сказал: «Раз коллектив его выбрал, пусть работает». Все же за окном был уже 1988 год, и времена кардинально менялись.
Принципиальный вопрос, который после избрания директором встал передо мной и моими коллегами-единомышленниками, заключался в том, чтобы понять, насколько глубоко и кардинально мы готовы и должны пересмотреть наши прежние исторические представления. Не будем забывать, что в тот период в стране, обществе и в нашей науке было довольно широко распространено мнение, что следует перечеркнуть все старые идеи и всю старую историографию, признав их устаревшими и несостоятельными.
Мы провели в 1989 году большую конференцию российских специалистов, в основном сотрудников института, на которой фактически определили направления и перспективы развития изучения всеобщей истории в целом и задачи института.
Я думаю, что эта конференция, хотя и не получившая большой общественной известности, имела для нас принципиальное значение. Материалы конференции были опубликованы в двух небольших книгах, которые очертили пути обновления наших исторических представлений на длительную перспективу.
Одновременно в институте была проведена международная конференция по проблемам цивилизаций.
Как видно, мы обратили основное внимание на проблемы методологии. Надо было уйти от одномерного понимания истории, не отбрасывая полностью марксизм, но воспринимая его как одну из политических теорий, рассматривая исторический процесс как сложное и многофакторное явление.
Наши теоретические новации были в большой мере связаны также с новым пониманием роли человека в истории. Мы вышли на совершенно новые трактовки, касающиеся духовной сферы деятельности и так называемой ментальности людей, делая акцент на их повседневную жизнь.
Важными этапами нашего нового видения истории, по моему мнению, стала серия конференций по социальной, политической и интеллектуальной истории. Фактически мы вырабатывали совершенно новый взгляд на содержание и место социальной истории.
Я понимал, что на начальном этапе любого переходного периода и особенно на этапе такой ломки старых представлений бывает необходимым «перегибать палку», действовать более резко, чтобы достичь результата, иначе возникает опасность, что сила инерции и стагнации, приверженность устоявшимся теориям (а их сторонников всегда немало) помешают движению вперед и коренному обновлению наших представлений. Меня обрадовало, что большинство ученых института поддержало эту линию. Видимо, сказывалось и то, что в силу самой специфики нашего предмета (всеобщая история) мы были менее идеологизированы, чем специалисты по отечественной истории, и открыты для бóльшего включения в мировую историографию.
Став директором, я столкнулся еще с одной весьма сложной проблемой, которая существует и поныне.
В институте (наверное, как и в других учреждениях, особенно связанных с идеологией) работали люди разных исторических взглядов и политических убеждений. Я никогда не скрывал своих позиций и свою ориентацию на обновление наших представлений и пересмотр многих сторон нашей деятельности. Но с самого начала моим стремлением была выработка неких «правил игры». Мы не подписывали пактов или соглашений, у нас не было каких-либо договоренностей. Но мои коллеги приняли то, что мы элиминируем политическую и идеологическую деятельность из стен института (особенно в рабочее время). Кроме того, я и мои коллеги в дирекции были едины в том, что мы должны давать возможность для выражения разных взглядов и исторических позиций.
Я убежден, что реальный плюрализм в научной работе должен быть нормой, правилом и стимулом. Но важно, чтобы историк не оказывался бы в плену идеологических схем и стереотипов, а в своих исследованиях основывался на реальных фактах и документах.
Опираясь на открытие архивов, мы наметили новые рубежи в исследовании истории ХХ столетия в целом. Я сделал об этом доклад на заседании Президиума РАН, и для меня это событие стало важным рубежом в научной работе.
После трех лет напряженной и творческой работы пришло осознание, что мы действительно сделали решающий шаг к новому пониманию истории, и новые подходы стали доминирующими в нашей деятельности.
Но нам предстояло также утвердиться как реальной и органичной части мирового сообщества историков. Довольно неожиданно представился благоприятный случай – предстоял юбилей известной французской школы «Анналов». Отношение к этой школе, близкой к марксистским методам, стало в советские времена неким символическим мерилом. Известно, что в нашей идеологической, да и весьма часто в политической практике наиболее «опасными» считались не столько крайне правые и консервативные течения, сколько левоцентристские, иногда даже близкие к марксизму.
И вот мы решили провести в Москве (потом выяснилось, что подобная встреча состоялась только в Москве) большую международную конференцию, посвященную юбилею школы «Анналов».
В Москву приехал цвет историков из многих стран. Здесь были Жак Ле Гофф, Пьер Тубер, Морис Эмар и другие – из Франции, Карло Гинзбург – из Италии. В это же время мы пригласили в Москву мэтра французской, да и, пожалуй, всей европейской историографии профессора Жоржа Дюби.
Эта конференция как бы символизировала утверждение нового образа Института всеобщей истории в Москве в мировой историографии. После нее я посещал многие страны и повсюду видел положительную реакцию на проведение институтом этой конференции.
Институт значительно повысил свой международный престиж. Поставив задачу добиться кардинального обновления в изучении всеобщей истории и в деятельности института, мы понимали, что важнейшим средством для этого станет сохранение наиболее квалифицированных кадров, способных к восприятию новых идей, и привлечение молодежи. В условиях трудной финансовой ситуации пополнение института было весьма непростым делом.
Мы отвергли линию на тотальное сокращение численности сотрудников института, хотя и испытывали постоянную нехватку средств. Курс на сочетание опытных ученых и молодых специалистов себя полностью оправдал.
В институт было взято более 40 молодых сотрудников (либо через аспирантуру, либо после окончания университета). Любопытно, что больше всего мы получили специалистов по древней и средневековой истории. Все-таки престиж этих исторических дисциплин оставался по-прежнему высоким.
Отрадным стало и то, что в последние годы на работу в институт пришли молодые специалисты по истории ХХ века. Я объясняю это тем, что их привлекает возможность работать в архивах, причем не со второстепенными и региональными материалами, а с документами высших органов власти (протоколы Политбюро и т.п.).
Кроме того, хочется надеяться, что общий высокий престиж института сыграл свою роль в стремлении молодежи прийти в институт работать или учиться в аспирантуре.
Но полнокровное участие молодежи в научной деятельности оставалось еще делом будущего, а пока я видел одну из первостепенных задач, чтобы максимально активизировать так называемое среднее поколение – тех, кому было от 40 до 50 лет. Именно они реально могли уже «делать погоду» в исторической науке. Я видел, что многие из представителей этого поколения были свободны от идеологических клише, стереотипов и предубеждений, хорошо знали зарубежную литературу и теоретические новации последних лет (концепции постмодернизма, макро- и микроистории и т.п.), были открыты новым методам исследования, использовали в своей работе компьютеры и прочие технические новинки.
Впрочем, я был далек от идеализации положения в институте и ситуации в области исторической науки в целом. Многие из наших сотрудников оставались малоактивными, а старое мышление с трудом уходило в прошлое. Можно было наблюдать и элементы стагнации, которая всегда проявляется там, где нет постоянного генерирования новых идей и методов. Да и старая приверженность российской интеллигенции к конформизму снова давала о себе знать. Я часто наблюдал апатию и равнодушие.
И все же жизнь показала, что курс на обновление, взятый институтом тридцать лет назад, принес свои результаты. С удовлетворением я наблюдал, как стремление к более фундаментальному и синтезирующему взгляду на прошлое становилось преобладающей тенденцией. Именно поэтому я отвергал весьма распространенные идеи о кризисе российской исторической науки.
Но моя жизнь была во многом связана еще с одним событием, которое представляется мне весьма важным и перспективным для института. В 1995 году состоялось решение правительства создать на базе курсов переподготовки преподавателей общественных наук нового гуманитарного университета в системе министерства образования. Теперь он носит название Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН). Его особенность и уникальность состояла в том, что каждый факультет университета (а их более десяти) базировался на каком-либо академическом институте, и таким образом впервые в жизни Российской Академии наук стала осуществляться интеграция науки и образования. Мы получили возможность готовить кадры для себя и смогли привлечь лучших представителей академической науки (в том числе и молодежь) для преподавательской работы.
В течение десяти лет я был ректором университета и теперь являюсь его президентом, одновременно возглавляю исторический факультет ГАУГН.
При этом меня воодушевляла идея выстроить некую систему непрерывного образования. Наш исторический факультет подписал соглашения с несколькими средними школами и лицеями, и мы намеревались готовить будущих историков со средней школы через новый университет и далее через академические институты. Вскоре эта линия была оформлена в виде создания научно-образовательного центра исторических исследований.
В дальнейшем нам понадобились новые программы, учебные планы, новые учебники и учебные пособия. Речь идет о системе, когда каждая новая ступень является органическим продолжением предшествующей с новыми элементами.
В 1996 году я включился еще в одну сферу деятельности – меня избрали Президентом Российского общества историков-архивистов. Эта область стала для меня относительно новой, хотя и весьма интересной. Я был вовлечен в обсуждение вопросов, связанных с архивными делами, со многими международными архивными проектами.
Совершенно очевидно, что в последнее время произошла подлинная революция в архивном деле нашей страны; в распоряжении историков оказались многие тысячи документов, в том числе и из высших эшелонов партийного и советского руководства.
* * *
Одновременно с перестройкой Института всеобщей истории, с укреплением Государственного академического университета гуманитарных наук, со многими другими сферами деятельности я продолжал поддерживать активные связи прежде всего со странами Европы.
Европа для меня была не только культурно-психологической абстракцией, а в том числе и суммой более тридцати национальных государств, сохраняющих и свою идентичность, и культурное своеобразие.
Париж – это реальный центр Европы, романтический город, в который снова и снова хочется приезжать. Может быть, для меня ощущение этого города связано с классической литературой XIX века, из нее к нам пришли образы Латинского квартала, бульвара Сен-Жермен и, конечно, Елисейских полей – улицы, которая такой же символ Парижа, как и Бродвей для Нью-Йорка.
Лондон, в отличие от романтического Парижа, продолжает сохранять свой прежний имперский стиль. И хотя давно нет Британской империи, и Англия переживает не лучшие времена, однако стиль жизни сохраняется в поведении и в укладе жизни британской элиты.
В молодости я оказался под влиянием знаменитой «Саги о Форсайтах». И, находясь в Лондоне, я обязательно стараюсь пройтись по Стрэнду, по которому ходил герой саги – Сомс. А сравнительно недавно я открыл для себя на Стрэнде ресторан «Симпсон». По-моему, это один из лучших ресторанов в Европе, где для каждого посетителя индивидуально в его присутствии режут любое выбранное им мясо.
Италия для меня – это прежде всего музей античного наследия, а Испания – во многом синтез Европы и арабского мира.
В течение многих лет я увлекался Скандинавией и, в частности, Норвегией, в которой бывал десятки раз. В значительной мере мой интерес к Норвегии объяснялся семейными причинами. Неожиданно выяснилось, что у моей жены оказались норвежские корни. И тогда же мы нашли в Осло ее кузенов и кузин, обаятельную тетю, в годы войны пережившую немецкий концлагерь.
Норвегия – это страна фьордов и суровой природы. Несколько раз я выступал в Норвегии в Нобелевском институте и в университете в Осло. Мои норвежские коллеги, как правило, люди немногословные, даже суровые, в этом отражается природный и человеческий стиль Скандинавии.
В начале 2000-х годов я получил грант от немецкого фонда Гумбольдта, который позволил мне побывать в основных (и больших, и малых) городах Германии и почувствовать стиль и уклад немецкой жизни.
Но некоторые страны Европы имели для меня и политическую окраску.
Мне приходилось часто бывать в Праге, и однажды я уезжал оттуда 20 августа 1968 года, т.е. за день до ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. У меня в памяти остались многотысячные демонстрации на Вацлавской площади в Праге 15–20 августа 1968 года.
Я часто бывал в республиках Прибалтики. В советское время мы много раз отдыхали в Юрмале (на Рижском взморье) и затем снимали квартиру в окрестностях Таллина.
Конечно, Балтийские страны – органическая часть Европы (в виде балтийской цивилизации c ее ганзейской архитектурой). Но для меня Рига, Таллин и Вильнюс – это и места, в которых я налаживал непростые контакты с новыми элитами этих стран в 90-е годы ХХ века, в первые десятилетия XXI столетия.
Для меня европейские страны и города – это еще и те места, где я читал лекции или выступал с докладами. Прекрасно помню престижный лондонский Чатем-Хаус, где я делал доклад о предвоенных годах; это и Нобелевский институт в Осло с моей лекцией о процессе принятия решений в советском руководстве по вопросам внешней политики. Это и Дом наук о человеке в Париже, организовавший мой доклад по теме «Россия и европейская идея». У меня всегда в памяти доклад в Таллине в 1989 году о внешней политике СССР в предвоенные годы и доклады на эту же тему в Берлине и в Бонне.
Совсем недавно я выступил в Москве (сначала в Отделении историко-филологических наук, а затем в Институте мировой экономики и международных отношений) с докладом о столетии выхода в свет книги Освальда Шпенглера «Закат Европы» и ситуации в современной Европе.
Я упоминаю обо всем этом в связи с наметившейся тенденцией считать Европу находящейся «в закате», в глубоком кризисе, и в контексте рассуждений о необходимости «переориентации» российской внешней политики на Восток. В принципе, я вообще не принимаю слова «о нашей переориентации». Россия – европейская страна, часть европейской, да и мировой культуры. Скорее можно говорить о «восточном» векторе российской политики и о нашей роли на евроазиатском пространстве.
Понимаю и принимаю необходимость усиления наших геополитических связей со странами Востока. Но надо помнить, что Россия – это европейская страна, естественная и важная составляющая европейской культуры.
Не нужно забывать и о том, что русское православие – это органическая часть христианства, которое является духовной основой Европы.
Общаясь с зарубежными коллегами и отмечая их готовность к сотрудничеству, я в то же время постоянно сталкивался с заранее определенным предвзятым отношением к нашей стране. В годы холодной войны на поверхности лежал антисоветизм, т.е. идеологическое и политическое неприятие идей социализма и коммунизма, которые исповедовали Советский Союз и его граждане. Эта невидимая стена как бы влияла на все наши взаимные контакты.
Профессиональные историки Запада, с кем мы общались, высказывали предубеждения, которые часто существовали даже помимо их воли и настроения. Это проявлялось и на мировых конгрессах, и на многочисленных международных и двусторонних встречах.
Конечно, и мы сами были нацелены на противостояние, но это не снимало вопросов об общих лимитах для западных ученых для сотрудничества с учеными из СССР и стран социалистического лагеря.
Подобная ситуация, как правило, не распространялась на наши личные взаимоотношения с учеными Запада. Но, разумеется, общий фон оставался трудным и конфронтационным.
Положение начало меняться с конца 1980-х годов и в 1990-е годы. Казалось, что с изменениями в России ценностные разногласия должны были снять или хотя бы уменьшить противостояние. Но в действительности в 2000-е годы оно возродилось уже под новым флагом. Это было неприятие России с геополитической точки зрения, которое распространялось и на оценки исторических событий. Я особенно остро ощутил это во время контактов с историками стран Балтии и частично Польши. Их жесткая позиция, интерпретация истории, фактически исключавшая многофакторный подход к истории, ангажированность, стремление подчинить оценку исторических событий сиюминутным политическим интересам влияли на возможности конструктивного сотрудничества с ними.
При этом надо отметить, что в стремлении доказать свою точку зрения на события 1939–1940 и последующих годов, они, вопреки принятым в мировой историографии оценкам, обвиняли Россию во всех смертных грехах с глубокой древности и до наших дней.
В подобном подходе к исторической памяти никакие контраргументы и очевидные всем доводы не воспринимались и отвергались без особых доказательств.
В основном эта позиция была свойственна историкам, политологам, журналистам не академического плана. Серьезные историки, как правило, старались не включаться в антирусские акции.
Они предпочитали отмалчиваться, поскольку антироссийская направленность поддерживалась официальными кругами и особенно средствами массовой информации.
В этой сложной ситуации мы продолжали линию на сотрудничество и контакты с теми многочисленными профессиональными историками академического плана, которые действуют в разных странах мира.
* * *
Работая в институте, по совместительству я преподавал в некоторых вузах. Из всех я бы выделил Дипломатическую академию МИД СССР. Это было в период с 1966 по 1976 год. Там читался курс по истории советской внешней политики. Я разделил его с известным дипломатом Валерианом Александровичем Зориным, который был советским послом во Франции, а затем какое-то время заместителем министра иностранных дел. Моим предметом была советская внешняя политика с 1917 по 1945 год, а Зорин читал курс по периоду после окончания Второй мировой войны.
И сегодня я вспоминаю свою работу в Дипакадемии с большим удовлетворением и даже с удовольствием. В то время в Дипакадемии были разные курсы. Были обычные слушатели, пришедшие учиться после школы. Но наиболее интересными были курсы для действующих дипломатов, причем самыми привлекательными были лекции для дипломатов высшего звена. Они все понимали с полуслова, имели большой жизненный опыт.
Другое воспоминание связано с лекциями, которые организовывались в Дипакадемии для жен руководящих работников, причем не только дипломатов. Я читал им лекции, кажется, раз в две недели.
Накануне первой лекции ректор пригласил меня в кабинет и попросил быть максимально осторожным и тактичным. Он прекрасно понимал и боялся того, что скажут эти жены своим мужьям вечером дома о Дипакадемии.
Однажды ректор позвал меня и поблагодарил за лекцию. Он сообщил мне, что какой-то высокопоставленный генерал позвонил ему и сказал, что в академии очень хорошие лекции.
В целом, работа в Дипакадемии была для меня очень интересной. Впоследствии во время зарубежных поездок я встречал в наших посольствах многих людей, которые слушали мои лекции. Не скрою, мне было приятно услышать их позитивные воспоминания о наших встречах и моих лекциях.
Говоря о своем участии в работе в других университетах, замечу, что я ограничивался эпизодичными лекциями в МГИМО, а позднее – в РГГУ.
Но сравнительно недавно я оказался вовлеченным в новую для меня сферу деятельности. Речь идет о преподавании истории в средней школе. В прессе начал муссироваться вопрос о так называемой вариативности образования, которая привела к появлению в школе многих десятков учебников по истории. Впрочем, так же было и в отношении других школьных дисциплин.
Одновременно развернулись острые споры о «едином государственном экзамене». По инициативе тогдашнего министра образования и науки я был привлечен к работе по этим проблемам. В отношении ЕГЭ у меня уже была своя позиция. Сама идея мне сразу же показалась полезной. Формализация процесса экзаменов и их введение по всей стране должны были позволить абитуриентам из провинции поступать в столичные вузы и т.п. Но как это часто бывало в нашей стране, «добродетели оборачивались другой стороной». Началось резкое снижение качества образования в школе. Многие школы заботились не о содержании преподавания, а о натаскивании учеников для сдачи ЕГЭ.
В дополнение к этому, вариативность обучения и преподавания, которую я считал одним из главных достижений нашей образовательной системы, позволявшей учителям выбирать тот или иной учебник, также обернулась другой стороной. Например, в распоряжении учителей оказались более ста наименований учебников по истории, утвержденных министерством. Вследствие этого возможность выбора стала некоей профанацией, поскольку школа не могла физически приобретать такое количество учебников.
В дискуссию включился даже Президент страны, который заявил, что надо иметь по истории единый учебник.
Сразу же оживились противники всякой вариативности, они начали призывать вернуться к старым советским временам, когда был один учебник по типу «Краткого курса истории ВКП(б) – КПСС».
«Прогрессивная общественность» активно выступила против этих попыток. И в итоге был найден некий компромисс – было объявлено, что Президент имеет в виду общую единую концепцию преподавания истории в школе, в рамках которой могут быть рекомендованы три линейки учебников по истории России.
Была сформирована рабочая группа по подготовке такой концепции, названной культурно-историческим стандартом, и меня пригласили возглавить эту группу.
Я был очень воодушевлен этим поручением. Мы работали увлеченно. Главным институтом для нас был Институт российской истории. Конечно, в составе группы были люди с весьма разными взглядами на российскую историю. Наша задача мне виделась в том, чтобы представить сбалансированную точку зрения, без крайностей и без односторонности. Мы исходили из того, что подход к истории не должен раскалывать общество. Все-таки школа – это не научный институт или университет, где могут сосуществовать различные мнения и позиции.
Мы полагали, что подготавливаемый «стандарт» – это не обязательный вердикт или идеологическая установка. Но все же я хотел, чтобы в нем были не только успехи и достижения, упоминались бы и мрачные страницы нашей истории, включая ошибки. Предполагалось, что стандарт должен быть своеобразным «навигатором». Мы включили в него необходимость упоминания о сталинских репрессиях, о катынском преступлении и т.д.
Любопытная коллизия произошла с трактовкой термина «татаро-монгольское иго». Слова о татарах и монголах были подвергнуты сомнению еще ранее, но здесь мы подошли к самому понятию «ига». Бытовавшее с советских времен умолчание о связях русских князей и, в частности, князя Александра Невского с татаро-монгольскими ханами уже стало предметом внимания историков. Я помню нашу поездку вместе с С.Е. Нарышкиным в Казань, где я имел интенсивные контакты с «главным» историком-идеологом, советником глав Татарстана и директором Института истории Р.С. Хакимовым. В итоге мы заменили слово «иго» фразой о взаимоотношениях русских князей с Золотой Ордой.
Во многих регионах России (если не во всех) в школах существуют учебные пособия, касающиеся истории этих регионов. Они очень различаются и по содержанию, и по объему. В Татарстане это объемный том. Формально они не утверждаются на федеральном уровне. Из всех этих обсуждений я вынес убеждение о том, сколь сложно найти общие оценки и трактовки исторических событий даже в пределах Российской Федерации.
Мы завершили культурно-исторический стандарт и доложили об этом Президенту.
В целом, он не только одобрил текст, но и явно дал понять, что доволен проделанной нами работой. Мне рассказывали, что он был особенно доволен тем, что подготовленный материал не вызвал особенных возражений ни у коммунистов, ни у так называемых либералов.
Вскоре Президент вручил мне Государственную премию. И в своем выступлении он говорил о моих заслугах в европейских исследованиях; но люди, близкие к Президенту, поведали мне, что одним из аргументов в пользу присуждения мне премии была и моя работа над культурно-историческим стандартом для нашей школы.
* * *
После достижения определенного, отнюдь не молодого возраста, кажется, что время начинает двигаться очень быстро.
Я продолжаю жить в непрерывном калейдоскопе дел и событий. Когда, после тридцати лет работы директором, я перестал им быть и стал научным руководителем института, казалось, что теперь начнется более размеренная жизнь. Но, видимо, есть не просто привычка, а устоявшийся ритм и стиль жизни, а их трудно изменить. К тому же я следую советам своего врача-кардиолога, которому, кстати, самому более 90 лет. Он рекомендовал мне жить в том же темпе, к какому я привык.
Я с большим интересом и воодушевлением работал над «Всемирной историей», которая была закончена совсем недавно. Это стало неким итогом многолетних занятий. И когда на исходе 2018 года мы отмечали 50-летие нашего Института всеобщей истории, с которым я прожил практически всю жизнь, мне было приятно и грустно.
Близкие друзья говорили, что это был мой день.
Когда я думаю, чтó дает мне силы и оптимизм, то прихожу к выводу, что их источником является постоянный поиск новых дел и новых увлечений, размышляю о новых трудах и о новых проектах, может быть, и о новых поездках (если позволит здоровье).
* * *
Словом, моя жизнь была и сейчас продолжает быть заполненной и насыщенной. И хотя все это интересно, но я сожалею, что так мало времени остается для прочтения массы книг и изданий по литературе и искусству, что поток всяких дел и текущей информации (в исторических трудах, в газетах и журналах, на телевидении) явно затрудняет возможность побольше и поглубже поразмышлять о вечных истинах.
1
Чубарьян А.О. Европейская идея в истории: проблемы войны и мира. Москва: Международные отношения, 1987. Она была издана в Москве, а затем на немецком языке в Берлине на английском языке в Лондоне и на французском в Париже: Alexander Tschubarjan. Europakonzepte: von Napoleon bis zur Gegenwart; ein Beitrag aus Moskau. Aus dem Russ. von Reinhard Fischer. Berlin, 1992; Chubarian A.O. The European Idea in History XIX–XX Centuries. A view from Moscow. Ilford: Frank Cass, 1994; London, 1998; Alexandre Tchoubarian. La Russie et l’idée Européenne. Paris: Éditions des Syrtes, 2009.
2
Чубарьян А.О. Российский европеизм. Москва: Олма-пресс, 2006.
3
Чубарьян А.О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис, сентябрь 1939 – июнь 1941 года. Москва: Наука, 2008.