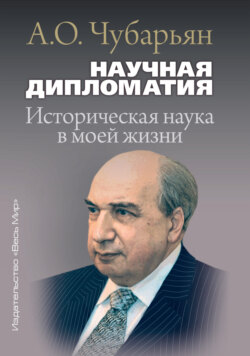Читать книгу Научная дипломатия. Историческая наука в моей жизни - - Страница 22
Часть первая
Мои воспоминания
Балтийские трансформации
ОглавлениеЗначительное место в моей международной деятельности, да и в жизни в широком смысле, занимали связи с историками стран Балтии.
Еще во времена советской власти я довольно часто посещал Эстонию и Латвию в основном для летнего отдыха. Но иногда в Риге, Таллине и Вильнюсе организовывались конференции, в которых участвовали известные в то время академики Ю. Кахк (Эстония), А. Дризул (Латвия) и Б. Вайткявичус (Литва). При этом надо сказать, что Кахк имел высокий престиж за рубежом.
Конечно, балтийские историки были активно адаптированы в советскую систему. Упомянутый уже А. Дризул перед самым концом советской власти был даже секретарем ЦK компартии Латвии по идеологии. И в то же время при всем этом историки стран Балтии были явно ближе к западной историографии, чем их коллеги из других республик Советского Союза. Упомянутый Ю. Кахк входил в совместную группу с историками США по вопросам применения математических методов в истории.
Особую близость к зарубежной науке демонстрировали историки Эстонии. Уже в советское время особенно тесными были их связи с соседней Финляндией. Но в конце 1980-х и в начале 1990-х годов, после провозглашения независимости стран Балтии, ситуация коренным образом изменилась. Было очевидным, что в отношениях России с этими странами наступает новый непростой период.
Помню, как в начале 1990-х годов я предложил директорам институтов истории стран Балтии собраться, чтобы обсудить перспективы наших отношений и сотрудничества. К этому времени в странах Балтии уже набрало силу использование истории в политических целях. Многие местные историки возлагали на Россию ответственность (как наследницу СССР) за «оккупацию» Прибалтики в 40-х годах ХХ столетия.
И вот в такой обстановке мы встретились в Вильнюсе. Все институты возглавляли новые люди, пришедшие к руководству в независимых государствах. На этой встрече мы договорились продолжать сотрудничество. На протяжении многих лет наш институт был одним из немногих, кто развивал связи со странами Балтии. И как директор института я лично прикладывал к этому немалые усилия. Должен с удовлетворением сказать, что все прошедшие годы мне удавалось сохранять с прибалтами нормальные отношения, одновременно отстаивая точку зрения российских ученых. Одна из самых популярных латвийских газет назвала меня «ученым с хваткой дипломата», историком с демократическими взглядами, но действующего в рамках государственной идеологии.
В начале 2000-х годов в Риге была создана Международная комиссия по изучению вопросов советской «оккупации», в которую латвийские историки и общественные деятели включали весь советский период Латвии с 1940 по 1991 год. Я был приглашен латвийскими организаторами войти в состав Комиссии. Меня одолевали сомнения, а стоит ли это делать, но учитывая то, что Комиссию формально возглавила президент Латвии и ее курировал советник президента профессор А. Зунда, я решил принять предложение, получив согласие российского министра иностранных дел.
Я ездил на ежегодные заседания комиссии почти восемь лет. Заседания проходили весьма бурно и остро. Мне удалось наладить конструктивный контакт с членами Комиссии из Германии и Израиля, и мы совместно удерживали латвийских руководителей и членов Комиссии от излишнего и крайнего экстремизма.
В рамках и под эгидой Комиссии проходили конференции в основном под флагом «оккупации». Правда, стоит сказать, что все мои попытки расширить тематику деятельности Комиссии и мое стремление склонить латышей к изданию совместных сборников документов по другим историческим периодам и проблемам ими отклонялись. Помню, как особенно рьяно один из членов комиссии от Латвии настаивала, что все мои предложения будут рассматриваться только после того, как я публично «покаюсь» за действия СССР в 1940 году и за последующие годы.
Я постоянно повторял, что мне лично не за что каяться, и что вообще идея покаяния за историю сама по себе неконструктивна и может привести к тому, что все страны будут обязаны беспрерывно каяться. Но все было тщетно. А тут начали выходить книги по материалам деятельности Комиссии. Получилась странная картина.
Издавались книги, с содержанием которых я был не согласен, но на обложке титульного лица печатался полный состав Комиссии, в том числе и моя фамилия. Я как бы становился соучастником издаваемых книг. В итоге я написал письмо руководителям Комиссии о выходе из ее состава.
А затем все мои усилия на «латвийском направлении» были сосредоточены на возможности создания другой исторической Комиссии – двусторонней российско-латвийской.
Постепенно несколько менялась и общая ситуация; новый президент Латвии В. Затлерс в 2010 году неожиданно посетил Москву и в беседе с Д.А. Медведевым (тогда президентом России) согласился с предложением сформировать совместную российско-латвийскую Комиссию историков, и я был рекомендован российским МИДом на пост сопредседателя с российской стороны.
Латвия назначила своим сопредседателем Комиссии профессора университета И. Фельдманиса. Он представлял собой крайнее крыло среди националистически настроенных латвийских историков. Он сразу же начал делать весьма недружественные заявления о том, что его главной задачей будет заставить меня и Комиссию в целом официально признать факт советской оккупации и т.п.
Подобная позиция создала для меня весьма непростое положение. Многие в России начали обвинять меня даже в «предательстве интересов России». Поводом же служили мои действия и стиль работы в Комиссии. Я видел свою цель в том, чтобы не обострять ситуацию, минимизировать жесткую позицию руководителя латвийской части Комиссии и искать пути к конструктивному сотрудничеству.
Я игнорировал выпады и заявления Фельдманиса и аккуратно доводил до сведения латвийской общественности, что деструктивная позиция Фельдманиса противоречит целям и задачам Комиссии, изложенным после визита латвийского премьера в Москву.
В то время мы готовились к заседанию Комиссии в Москве. Мои недруги уверяли (через Интернет), что российский руководитель Комиссии, конечно, признает советскую оккупацию и пойдет на сговор с латвийскими руководителями Комиссии. Но, видимо, наша позиция повлияла на латышей, и они на заседании Комиссии даже не упомянули об оккупации.
Мой общий подход в отношении Комиссии и ее латвийского руководства получил поддержку российских официальных кругов (Администрации Президента и министерства иностранных дел).
В итоге наша принципиальная и сдержанная позиция принесла свои плоды. Рига информировала Москву, что Фельдманис ушел в отставку с поста сопредседателя Комиссии, и на его место назначен профессор Зунда. Я знал его довольно хорошо. Длительное время он был советником по истории президента Латвии. По своим взглядам он не очень отличался от предшественника, но был более осторожен и гибок. В отличие от Фельдманиса Зунда – не публичный человек, он редко дает интервью. Однако очень скоро Зунда включился в общую атмосферу враждебности и озвучил решение Риги приостановить работу Комиссии.
В общем плане моя деятельность в отношениях с Латвией дала мне возможность приобрести опыт осуществления международных связей в необычных условиях, в сочетании внутренних и международных факторов.
Параллельно с Латвией я был вовлечен в активное сотрудничество с Литвой. Собственно, оно началось даже раньше, чем создавались Комиссии с Ригой. Это было следствием того, что еще в 2006 году была создана совместная российско-литовская Комиссия историков. Инициатором с литовской стороны был А. Никжентайтис, тогда директор Института истории Литвы.
Мне он сразу показался человеком, заинтересованным в развитии сотрудничества с Россией. Он неоднократно приезжал в Москву, мы встречались в Вильнюсе. На наших встречах Никжентайтис искал компромиссные формулировки: я никогда не слышал от него слов о советской оккупации.
Помню, мы проводили в Вильнюсе конференцию о перестройке. Из Москвы приехали ученые и некоторые «ветераны перестройки». Никжентайтис вел заседание корректно и, что меня приятно поразило, подчеркивал, что именно перестройка в СССР подготовила обретение независимости Литвы.
С Институтом истории Литвы мы подготовили и издали два дома документов СССР и Литвы в годы мировой войны. Но наши отношения с историками Литвы также зависели от официальной позиции литовских властей, которые в последние годы демонстрировали постоянную враждебность по отношению к России.
В этот же период я активно сотрудничал с историками Эстонии. У нас нет с ними специальной Комиссии, как с Литвой и Латвией. Но у нас есть в Эстонии надежный партнер. Это бывший директор Института истории, а ныне профессор Таллинского университета Магнус Ильмярв. Он выпустил книгу о событиях в Прибалтике в 1939–1940 годах. Основываясь на множестве документов, в том числе и архивных (включая российские архивы), Ильмярв написал оригинальную и серьезную работу, в которой дал анализ драматических событий тех лет. Он часто посещал Россию и во многом способствовал проведению двухсторонних российско-эстонских коллоквиумов.
Обращаясь к нашим контактам со странами Балтии, я должен отметить, что столкнулся с новой ситуацией. Мои коллеги, особенно в Латвии, не хотели слышать никаких аргументов, они признавали правомерность только своих точек зрения; не считались с тем, что в истории были и другие свидетельства, чем те, которые они признавали.
Подобного я не встречал даже в худшие времена холодной войны. Самое печальное состоит в том, что наши коллеги из Риги переносили свое чувство неприятия советской политики и на нынешнюю Россию и, в частности, на российских историков, как бы давая понять, что и мы виноваты и ответственны за прошлые исторические события.
Разумеется, в таких условиях сложно вести диалог, приводить факты, аргументы и излагать свою позицию.
* * *
Но несмотря на эти обстоятельства, я думаю, что в данном направлении мы делаем весьма полезное для России дело.