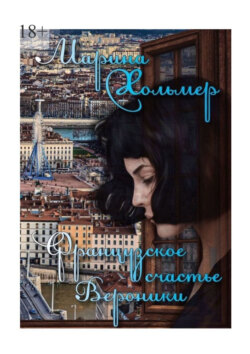Читать книгу Французское счастье Вероники - Марина Хольмер - Страница 10
Часть I
Ника, Верка, Véronique
глава 9.
Потерявшийся тромб
ОглавлениеПесчаный возраст, зыбучий, пограничный, то жестко-мокрый под ногами, то утекающий, затягивающий. И обратно уже не вернуться, и вперед идти трудно, тормозно. Есть возраст солнечный, когда для счастья достаточно света дня. Его сменяет возраст надежд и свершений. Но если не успел или обронил что-то важное, без чего тебя и нет толком, наступает он, песчаный возраст. Сначала рыжей пылью, сирокко, мелкой крошкой, а потом и не заметишь, как намело целую французскую дюну Пила.
Магическое число, которое для многих повернулось к будущему упругими ягодицами, у запоздавших еще топорщится округлыми грудками вперед или ложится двойным воротничком на платьице а-ля «детский утренник». Тридцать три. 33. И пока Вероника удивляется быстротечности времени и размышляет о «земной жизни, пройденной наполовину», идеальные полукруглые формы распадаются. И понеслись, набирая галопом скорость под материны окрики, разномастные, потерявшие смысл цифры: сбивающая ритм четверка, рваная пятерка, шестерка, полная пессимизма… А вдоль дороги расплываются в туманном нигде лица случайных партнеров, одноразовых, как Tampax.
Мать говорит, что к Веронике нельзя пробиться через ее высокомерие, через молчание, скрытность и что-то еще, похоже, эгоизм. Однажды бросила, что дочь выстроила стену похлеще средневековых замков, что ее носит где-то в иных сферах, откуда больно падать. Скажет вот так какую-нибудь гадость – и смотрит с ожиданием, с вызовом, с уже заготовленной обидой. Одиночество в плоской квартире на втором этаже с нежилой нейтральной территорией-гостиной распадается надвое. Тетушка старается, соединяет, умиротворяет, но ей не под силу сделать обитателей квартиры счастливыми.
* * *
А потом матери не стало. Сказали, что тромб. Какой-то осколок в прошлом живой, весело бегущей вверх и вниз по организму крови, приплыл не туда и заблокировал уставший к этому моменту ток. Вероники не было дома. Ее не было ни днем, когда во всю кипела работа над важным рекламным заказом чрезвычайно капризного клиента, ни ночью. Случайный вечер, куда позвала вездесущая Лена, чтобы расслабиться и скинуть, как тесные туфли, напряжение последних недель, синел за городом среди высоких деревьев. Там и заночевали.
Дом оказался большим, только что отстроенным и полупустым, с наваленными матрасами в просторных комнатах, со сделанной на заказ лепниной на потолке и нишами с подсветкой по углам. Между лестницами в лобби, как называл это пространство хозяин, стоял бильярдный стол. Вероника впервые видела такой дом. Хозяин ей подливал и подливал. Она, уставшая, задремала, откинувшись на большие в восточном стиле подушки. Потом почувствовала, как ее несут, приоткрыла склеивающиеся веки и обвила руками шею того, кто нежно целовал ее в щеку.
Утром проверила телефон, оставленный где-то там, внизу, среди подушек и разбросанных, сероватых в неярком свете тарелок и чашек. Десять, а то и больше пропущенных звонков от тетки.
«Что ей надо? – раздраженно подумала Вероника, собирая свои вещи, а заодно и грязную посуду. – Небось мать снова что-то хочет или дурит по своему обыкновению. Вынь да положь ей какую-нибудь раннюю клубнику, или вишневый сок, или соленый миндаль. Давно ли бананам была рада…»
Главное, что ее занимало в этот утренний час в безлюдно-сонном доме, – как ей себя вести. Веронике необходимо было понять, положила ли минувшая ночь начало серьезным отношениям с хозяином или стала очередной минутной остановкой, как туалет на автотрассе, на его пути в совершенно иную сторону.
* * *
Когда все было закончено, похоронный агент рассказал, где можно будет получить урну с прахом.
Вероника сидела на поминках в стороне, давая возможность тетушке и набежавшим откуда-то малознакомым людям все готовить и убирать. Они дружно расставляли посуду, собирали посуду, мыли посуду, роняли посуду. Сначала делали все молча и траурно, а потом, забывшись, начали галдеть, с радостью обсуждая общих знакомых и их детей с давно не виденными троюродными и вообще не понятно какими сестрами. Ее никто не трогал. Лишь тетка Полина гладила и гладила ее руку, пытаясь ей дать тепло, поддержку в неожиданном горе.
Горя Вероника не испытывает. Она вообще ничего не чувствует. Только иногда, выныривая из мутной прозрачности этого странного дня, схватывает судорожно воздух, вздрагивает, оглядывается и ждет едких слов матери в свой адрес. Их, как ни странно, нет.
Она выходит на балкон. Вечереет. Ворона, обхватившая скрюченными когтями перила, отодвигается и с опаской смотрит на Веронику. Улетать она вроде бы и не собирается, но ее готовность к опасности дрожит на конце каждого перышка – молниеносная, взбитая, генетически выверенная вороньими предками. Это ж целая наука – жить рядом с людьми. От людей ведь не только еда, от них можно ждать чего угодно.
Вероника пододвигает птице крошки. Та недоверчиво косится на нее круглым черным глазом, но расстояние кажется слишком рискованным. «Ну не хочешь – как хочешь», – думает Вероника и тут уже забывает о вороне.
Она смотрит на улицу, на окна напротив, которые открываются со скрипом, поздно просыпаясь после зимнего застоя. Город дышит по-весеннему, поскрипывая, будто разминает затекшие суставы. Воздух в голубой свежести подрагивает, как та ворона, которой хватает-таки смелости ухватить кусочек хлеба и быстро ретироваться. Потом то справа, то слева проносятся мимо Вероники и вороны разные запахи. Вон там жарят картошку, а там – то ли курицу, то ли индейку запекают в духовке, а тут вон что-то подгорает… Удивляется тому, о чем она сейчас думает, оставляя грустно прощающихся родственников за спиной. Матери больше нет, а она про подгоревшую еду в окне напротив…
Запахи все равно мешают. Они рассказывают о жизни большого, опутанного проводами и магистралями мегаполиса, о вечерних кухнях, куда, незло поругивая забывчивость хозяйки и жесткость оставленного без присмотра мяса, стекается семья.
За пару дней до смерти мать вдруг спросила: «Вера, а почему ты со мной не разговариваешь? Мне же одиноко, как ты не понимаешь? Нам когда-то сказали, что нужно иметь детей. А любить не научили. У кого-то получилось, у кого-то нет…»
Вероника хотела было уточнить, а кто, собственно, должен был учить любить? Все привыкли обвинять войну, коммуналки, родителей… При равных исходных данных один вырастает сволочью, а другой не может написать донос даже при угрозе жизни… Или все-таки нет никаких равных данных? Нет вечно сияющего нуля, от которого отсчет? Она молчала, даже не отреагировав на «Веру», чтобы в кои веки просто выслушать. Голос матери ей казался щелкающим пустотой кошельком адептов ХХ века. Почти каменного века. Что уж сейчас вспоминать? Это как водрузить на площади памятник Сталину! Такого просто быть не может. Поезд прошлого давно ушел, и рельсы разобрали.
– А что цепляюсь к тебе или дергаю, так это от старости, от того, что будущего больше не существует. Ты представляешь себе жизнь, в которой нет будущего? – Мать посмотрела в сторону, моргнула, потом еще пару раз, но предательская влага все же выползла и утонула в морщинках. – Старость, знаешь ли, делает мир все меньше и меньше, плющит его, а под конец зажимает между стенами своей комнаты и близкими. А близкие… Их-то как раз и нет. Каждый на своей волне, на своем клочке времени, как на лестничных площадках разных этажей. Вот ты есть у меня, казалось бы, живем вместе. Ты ходишь рядом, говоришь по телефону, приносишь продукты. Вчера вон обсуждали, когда сможем купить новый холодильник… Но нет, на самом деле тебя нет. Ведь раньше было все иначе… Помнишь свою юность? Как ты всегда приводила домой друзей? И не стеснялась. А теперь… Никто у нас не бывает. И где друзья? Все друзья исчезли – и твои, и мои.
* * *
Мать забирала, утягивала, как мышь в норку, запасы ее жизни. Вероника видела, что позволяет ей это делать. И ненавидела себя. И не прощала мать. Все кругом у них, у пожилых, в долгу. Прожитые ими годы тяжестью обрушиваются на других, на тех, кто оказался рядом. Из-под этих чужих завалов выбираются лишь самые сильные.
А старикам так хочется еще ощутить тот давнишний вкус желаний! Ведь эти, пропитанные нынче насквозь скукой и бессилием, и не желания вовсе. Жизнь расползается под руками, и ее не собрать. Так и хочется хоть немного переложить кислоту дней с уже заметным за зеркалом концом на этих молодых вертихвосток, виновных лишь в том, что пока еще не видят темной пустоты по ту сторону.
Вот и мать так же… Ее дни понемногу сворачивались поначалу в ковер, который иногда еще выносили на снежок или пылесосили. Потом они сжимались, уседали, пока не превратились в севшую на пару размеров кофту. Такую теперь можно только убрать подальше, на верхнюю полку – вроде и не наденешь, но и выбросить жалко. И под конец эта жизнь, или то, что от нее осталось, стаптывалась мятой бумажкой от давно съеденной конфеты. Она валялась в комнате с затхлым воздухом, обидами на дочь и ненавистными, навязчивыми окнами.
Вероника вдруг с болью понимает, что мать за последние несколько лет ни разу не вышла на улицу, на лестничную площадку. Даже не постучалась к соседям, за солью там или просто поболтать. Только после смерти ее тело, а потом и душа оставляют и дом с блочными стенами, и железную дорогу, лежащую внизу и подтекающую стальным рельсом, как ручьем, и город, который не заметил ее ухода.
* * *
Темная и тихая квартира растянулась от одной стены до противоположной. Из нее, каждый в свою очередь, в течение десятилетий выбывали люди. Сколько их тут было? Кто здесь жил раньше? Никто уже не скажет…
Вероника остается одна. Да, наезжает и даже живет по несколько дней тетушка. Вероника ей тихо и благодарно рада, что не мешает так же радоваться и ее отъезду.
А потом приходит тоска. Отмахнуться, сделать вид, что это неважно, и пойти дальше становится все невозможнее. Тоска заглядывает в лицо Вероники по утрам, стоит за спиной, мешает выбирать яркую одежду, оттягивает вниз сумку вечером по дороге домой…
Веронике хотелось бы спрятаться в рутине дней, застрять рыбой в штопаном неводе, рисинкой в дуршлаге. Она ставит себе самые простые цели: чтобы кофе не убежал, чтобы джинсы оказались без пятен, чтобы успеть на троллейбус. Как будто что-то большое, цельное, устойчивое, как старое пианино, вдруг рассыпалось на дощечки, клавиши, звуки. Возвращаясь с работы или после редких, случайных свиданий, она первым делом всюду зажигает свет. Так квартира оживает, теплеет, разные пещерные темные образы исчезают, а гундеж телевизора создает на короткое время, пусть даже только на этот вечер, жилой уют.
Жизнь, совершив небольшой поворот, пошла себе дальше, не продавливая еще душу вмятинами возраста. Вероника бредет по ней с тяжестью на сердце и с ворохом материных вещей, разбор которых она каждый раз оставляет на потом.