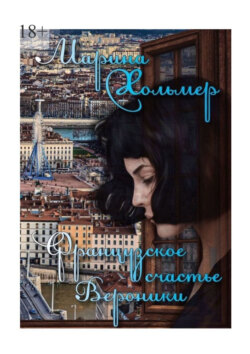Читать книгу Французское счастье Вероники - Марина Хольмер - Страница 5
Часть I
Ника, Верка, Véronique
глава 4.
Рискованность предприятия
ОглавлениеПараллельно шумной и насыщенной выхлопами, светофорами и звуками улице проходит железная дорога. Да, сначала идет линия домов, понатыканных вразнобой и вразноряд, потом – улица, которая носит окраинную и тревожную кличку Вал. Видимо, тогда еще требовалось защищаться от чужих, возводя полуразорванное очередное кольцо вдоль тогдашних границ Москвы. Дальше, понизу, не видимое даже с противоположного тротуара, лежит утопленное узкое железнодорожное полотно, где периодически подрагивает на стыках рельсов негромкая параллельная жизнь.
Прямо рядом со светофором, на перекрестке, можно спуститься по скрипящей деревянной лестнице. Потом, поглядев налево-направо, с замирающим от рискованности предприятия сердцем, перебежать по дощатому настилу рельсы и шпалы, как на каком-нибудь далеком переезде. Поезда нечасто проходят по этому странному внутреннему соединению вокзалов.
Когда-то у Вероники на той стороне от железной дороги, среди уже – и не вспомнить, которой по счету, – улиц Ямского поля было дело. И дело оказалось запоминающимся – не то чтобы любовь, но первый сексуальный опыт. Ей уже просто хотелось к моменту окончания института стать, как все. Подвернулись и парень, и случай. Правда, романтический прорыв с дорогой через железку от дома к дому закончился быстро, как раздавленный поездом.
Сексуальность взрывалась под руками, требуя немедленного воплощения в жизнь. Гормоны становились видны невооруженным глазом. Нетерпение покалывало потеющие ладони. Вероника мечтала побыстрее отбить от своей жизни ненужные куски советского женского воспитания. Ей виделась свобода, при которой она станет крутить хулахуп отношений, впуская лучших и снисходя к неудачникам. Их тоже можно было бы немного покрутить, так, из спортивного интереса.
Ключом к легкости и радости жизни должен был стать разрыв к чертям тонкой биологической материи. Сколько можно обнимать, обхватывать саму себя по ночам, а потом засыпать на узкой кровати, представляя иные, жарко мужские объятия? А сколько неплохих возможностей было упущено в студенческие годы из-за ступора неуверенности, нависшего черным крылом «нельзя» и стыдного «что скажет мама»?
Все вокруг тогда, в то лето, дрожало и вибрировало под многовольтным напряжением влюбленности. На перекрестках обнимались выпадающие из временного кондоминиума сверстники. По ночам взвывали сиреной коты. Молодые пары с умилением смотрели на басом орущего в коляске новорожденного, как на чудное чудо. Даже голуби переставали на время драться из-за крошек и целовались… «Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а голуби…» [1] Да, именно так и было.
Сдавливало колючей завистью и вонзалось в сердце очередное обручальное кольцо, на этот раз – у последней незамужней однокурсницы. Первые, самые некрасивые, уже давно там побывали, а некоторые даже вернулись обратно – кто с ребенком, кто без. Бежали быстрее всех, чтобы не упустить, чтобы, как курицы в порыве выполнения своей генетической программы, успеть снести яйца… Это слова Веры. Как они с Верой потешались над ними! И как Веронике тайком тоже хотелось крутить небрежно на безымянном пальце тоненькое колечко принадлежности к взрослому и таинственному миру… Вере, правда, она не говорила об этом. Она никому не говорила и смеялась, изображая этих куриц.
«Вы злые, девочки, – поддевала их мать Вероники, обожающая сидеть с ними на кухне. – А ты сама, Никочка, лучше бы подумала о том, чтобы вовремя выбрать… Хватит уже прыгать по разным компаниям, сосредоточься… Вон Маргарита Петровна хотела познакомить с племянником. Он аж из Америки готов был приехать – на тебя глянуть. Почему не согласилась? Не надо сводничества? Сама, сама… То один женатый козел, то другой не пойми кто… Вера, а ты что молчишь? Хоть бы ты ей сказала! Пора быть серьезнее! Вертихвостки»!
Мать называла ее тогда Никой. Это сейчас она Верка. Мать специально так…
Да-да, они с Верой смеялись над однокурсницами с чувством превосходства, с высокомерием свободы от всяких матримониальных условностей. Правда, всеми достоинствами, позволяющими себе подшучивать над простыми и наивными дурнушками, обладала только Вера. Она небрежно бросала миру свою красоту, как сумку с книгами увязавшемуся однокласснику. И мир восхищенно подхватывал ее, появляясь в виде то красавца-кавказца с «Арагви» и ящиком мандаринов, то скромного юноши из МГИМО с каким-то чумовым шарфиком из самого Парижа…
Вероника, у которой и имя-то было с довеском, а не звучное и пропорциональное, подтягивалась за Верой. Ей было немного не по себе – она понимала, что примерила не свое платье. И чуть завидно. А может быть, и не чуть. И те яркие чувства, которыми Вероника приросла к подруге, она не испытывала никогда и ни с кем. С уходом Веры из ее жизни все внутри смазалось и усохло. Платье, ставшее почти собственной кожей, соскользнуло с плечиков и, как чудеса у Золушки в полночь, превратилось в золу.
Но тогда Вероника пропускала ворчание матери мимо ушей и уносилась с друзьями то в очередной поход по Кавказу, то спонтанно в Питер на ночном поезде. Просто время еще не пришло.
И вот теперь, в исполнении намеченной инициации, Вероника переходила по деревянному настилу и возвращалась тем же путем. Светофор подмигивал. Троллейбусы замирали перед переходом, большие, прирученные, добродушные. А один раз она просто осталась с другой стороны, чтобы изменить течение жизни и исправить ее запоздало недовинченные винтики.
Порыв желания был ожидаем, отозвался в ней чувственным прикрытием глаз с абсолютно трезвой мыслью: диван скрипучий и не вполне чист. Таким он и был, но хозяина это не беспокоило. Его руки расстегивали, забирались под, снимали, сбрасывали, ласкали. Вероника приоткрыла глаза и пожалела об этом: то, что она увидела, оказалось неожиданным. Форма – ладно, не девочка поди, но размер! Но жуткий фиолетовый цвет! Ей совершенно не хотелось иметь к этому отношения. Правда, отступать было поздно. Тогда она побыстрее снова закрыла глаза и постаралась стать тем, чем принято. Что уж тут, сама вызвалась совершить то, чего от женщин ждут миллионы лет. Они, наверное, несут это в себе на уровне ДНК с пещерных времен.
Партнер ошалел от чувств, прилива крови и того, что произошло. Он был поражен неожиданной ненакатанностью процесса. Избранный для совершения прорыва отнес Веронику в ванную и подвывал за дверью. Вероника пребывала в неглубоком трансе, но под холодной водой быстро пришла в себя и привычным движением просто смыла кровавые подтеки. В полутемном коридоре были свалены то ли покрывала, то ли старые пальто, то ли и то, и другое. Она перешагнула через тряпье поступью королевы. Не заметив тянущихся к ней рук, не глядя в смущенные, молящие о прощении глаза, Вероника прислушивалась к себе. Потом сказала: «Пойду я, наверное, мне пора».
Он был готов ее нести до дома на руках, по тому самому деревянному настилу под отдаленный свист поезда или накатывающие сверху звуки улицы. Шум привычной городской жизни стал иным. Вероника, сдерживая восторженное биение сердца, дерзко смотрела на мир вокруг и точно знала, что теперь все изменится. Еще она знала, что ничего не расскажет Вере. По умолчанию, подруги, даже не принимая в расчет кавказца и редких Вероникиных приятелей, уже давно вошли во взрослую жизнь, которая позволяла смеяться над дурочками с колечками.
Выглянув в окно своей комнаты часа через два, уже в ночи, ей показалось, что среди кустов маячит его белая футболка. Он ждал, переживал. Удивленный до сих пор неожиданным эффектом, он чувствовал в себе набухающую в разных местах ответственность и рисовал будущее с Никой, которая его чем-то зацепила. Назавтра он заявился с букетом огромных белых роз для торжественного предложения руки и сердца.
Вероника обещала подумать. Розы были поставлены в вазу под материны ахи и долго сохраняли свежесть. А она уехала после защиты диплома в экспедицию копать курганы IX века где-то в верховьях Волги. Когда вернулась, новизна переживаний спала, стерлась, заменилась новыми, уже более осознанными, с открытым и освоенным удовольствием. Потом и отношения начала лета затерлись среди других дел, людей, впечатлений, пока полностью не исчезли, как те белые розы. Остался в памяти лишь фиолетовый цвет. Вспоминалось и блеклое продавленное ложе, покрытое, как потертой попонкой, равнодушной убогостью квартиры на одной из улиц Ямского Поля. Над всем этим заскорузлым убранством, несмотря на любовный порыв, оглядкой всполохивал страх – Вероника боялась, что обязательно кто-нибудь войдет.
Мать потом рассказывала, что стала почти что свидетелем потери дочерью невинности. «Вот тут, тут, прям на этом самом диване оно и произошло», – рассказывала она тетке, показывая рукой, как в музее, на один из экспонатов непутевой жизни дочери. – И ведь не стыдно ж было! Могла любого приличного парня оттолкнуть – прыгнула-таки в постель до брака-то! А этот – удивительно, но нет, не оттолкнулся. Даже наоборот – приходил! И просил! И меня просил, умолял: хочу жениться на вашей Веронике! Я для нее все сделаю! А эта вертихвостка посмеялась и убежала с подружками то ли в очередной театр, то ли на пьянку. Нет, ну ты представляешь? А потом она отправилась с рюкзаком какие-то могилы копать. Вот и докопалась до одиночества. Подружки все в порядке, все в шоколаде! Мы ведь не так ее воспитывали, правда?»
Тетка кивала с понимаем и чуть расширенными от ужаса глазами. Вероника мать не переубеждала. Бесполезно. К причитаниям про свою непутевость она уже привыкла, а остальное… Да и какая разница, какой именно диван принял на свои покачивающиеся ножки ее девственность? Даже нет разницы, чья тогда была квартира.
* * *
Вероника видит свою комнату каютой огромного судна. Она привыкла к уличному шуму, как к волнам за бортом. Даже при закрытых окнах он точно сообщает, какая снаружи погода, то хриплым чириканьем весенних воробьев, то мокрым шелестом шин, то подхрипывающим на светофоре торможением грузовиков. Загруженная траспортом, полная угловатой некрасивости, улица тянется до вокзальной площади. Вероника не любит ни ее блеклых красок, ни ее гула, ни ее запаха окраинности.
К площади Вероника выходит переулками, сходящимися под углом на развороте трамвайных путей. Теперь трамвай отодвинули, рельсы с гусиными лапками стрелок разобрали. Там идет стройка. Старообрядческая церковь выглядит потерянной. Она осталась без поддержки двухэтажных заставных построек – их снесли первыми. Потом на их месте открыли бензозаправку, которая тоже долго не продержалась под натиском нового застройщицкого аппетита. Церковь, как старушка, становится меньше ростом – вокруг растут здания, как сорняки-мутанты, захватывающие и подминающие под себя квадратные метры, пухнущие в цене.
Веронике хочется позвонить старым друзьям, сесть на метро и помчаться туда, к ним, чтобы все-все обсудить, пожаловаться на жизнь, на мать, на свое неказистое существование. Она бросает взгляд на вход в метро, на толпу привокзального народа и нащупывает мелкие деньги в кармане. Вместо того чтобы спуститься под мост, она поворачивает налево, идет по краю площади, как по берегу моря, и выходит на Тверскую. Там кипит совсем иная жизнь. Вероника думает, что и одета как-то не так, и у нее нет цели… Потом ее затягивает полноводный людской поток. И вот он уже несет праздную Веронику вниз, туда, где прохожих становится все больше, где день взрывается радостными приветствиями, где один за другим открывают двери новые магазины с высокими окнами витрин. Город дышит безмятежной и безличной свободой.
[1] Александр Блок, «Она вошла с мороза».