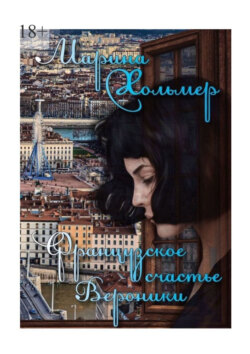Читать книгу Французское счастье Вероники - Марина Хольмер - Страница 14
Часть I
Ника, Верка, Véronique
глава 13.
Свежесть ветра
ОглавлениеГолос Луизы приносит свежесть ветра, впускает заоконный шум и что-то от поздно просыпающейся мансарды под крышей богемного Парижа. Мадам тормошит Веронику, задает вопросы и много смеется. Веронике иногда кажется это все чересчур: слишком громко, слишком весело, слишком театрально. Напоминает репетицию спектакля. Она готова услышать, что вот тут, в этом последнем монологе, не очень хорошо получилась важная пауза, а поэтому надо бы сыграть эту сцену заново. Паузы в эти дни и правда плохо получаются.
Нет, так нельзя: она опять выискивает блох… Теперь французских блох. Ну и ладно, пусть будет репетиция! Вероника принимает Луизу такой, какая она есть, и подыгрывает ей. Она отвечает на многочисленные распросы, с удовольствием готовит ужины. Через пару дней она уже торопится домой, выглядывая издалека мягко освещенные окна, и улыбается, обнаружив мадам с русско-французским словарем. «Véronique, – Луиза вскакивает и целует Веронику, – меня сегодня в очереди в музей спросили, откуда я! Сказали, что у меня прекрасный русский язык! Давай побольше говорить по-русски, чтобы у меня был… Pour pratiquer! Практика»!
Женщины насыщают пространство вокруг себя красивыми словами, смехом, шелестом легких шарфиков, запахом пудры и кофе. Квартира преображается. Она наполняется жизнью, новизной и светло-голубой подхрустывающей надеждой. Вероника понимает, что пора, да просто необходимо здесь многое изменить. Может быть, снести стену между комнатами? Может быть, избавиться хотя бы от старой мебели в материной спальне? А вещи… Их еще везде так много… Они кажутся Веронике почти живыми, но осиротевшими. Вещи, которые помнят, как их любили и берегли, жалобно ждут ласки и внимания. Они затягивают Веронику в мир теней и прошлого. Выбросить! Вымести этот хлам вместе с материнской язвительностью, окликами «Верка», обидами и старостью! Содрать, как старые обои, чувство вины и отмыть угрюмый запах одиночества!
Она делится с Луизой своими планами, спрашивает, не покрасить ли ей волосы в рыжий цвет, и проводит вместе с мадам ревизию своего небогатого гардероба.
– Вот ты приедешь во Францию, – как о решенном вопросе говорит Луиза, – и мы с тобой оторвемся по полной программе! Ты любишь мидии? А знаешь, что такое quenelles, кенели? Мы всегда ходим с Жан-Пьером в один замечательный маленький ресторанчик в Старом городе…
«Они ходят вместе с сыном в рестораны, – отмечает с завистью Вероника, которая уже достаточно слышала о Жан-Пьере. – Какие у них удивительные отношения»!
Она никогда не бывала с матерью в ресторане. Ей даже в голову такое не приходило. Да и тетушка называла это блажью, швырянием денег на ветер. «Еще и непонятно, что они туда кладут, какую тухлятину! Побрызгают каким-нибудь уксусом – и все шито-крыто, ешьте, травитесь»! – говорила она.
Вероника с жадностью поглощает информацию о лионских ресторанах и магазинах, как будто летит туда уже завтра.
Они беседуют с Луизой долго и обо всем. Смешивая русские и французские слова, женщины то сливаются в захватывающем порыве узнавания, то разбегаются, как волны, каждая в своей особенности. Мадам напоминает Веронике мать, но не ту, последнюю, которая оставила у нее в сердце закрытые окна и душные обиды. Луиза походит на мать давнишнюю, веселую, компанейскую, хотя уже тогда едкую к дочери, ту мать, которая ушла в небытие задолго до собственной смерти…
Воспоминания больше не приносят той боли, которая жила в ее долгом молчании. Она стирается, вытекает словами. Вероника впускает в сердце свет, как утреннее солнце в комнату.
– Ты любишь шпинат? Ты читала Макиавелли? Ты веришь в бога?
Луиза продолжает задавать нескончаемые вопросы. И Вероника тут же спешит ответить, но запутывается и попадает в западню нескончаемых объяснений, как в паутину. Потом сама себя поправляет, уточняет то, что только что сказала: нет, не так, лучше вот так, нет, тоже не то, точнее вот это, но нет, нет, наверное, сложно…
Про шпинат понятно, не любит, нет у нее привычки к этой зеленой массе. Трактаты Макиавелли она готова обсудить, если что, но хорошо бы перед этим освежить в памяти. А вот остальное… Утром, например, Вероника бы совершенно однозначно ответила, что никакой религии в ее жизни не существует. Насчет атеизма она, впрочем, тоже не уверена, но веры во что-то эфемерное, нарисованное коллективным земным разумом, точно нет. Она так и сообщает Луизе. На словах «во имя контроля» мадам поеживается, а на слове «власть» она медленно кивает. Слово «разум» чуть сводит к переносице ее красиво очерченные темно-русые брови. Вероника откровенна и даже немного многословна. Она спешит и говорит с жадностью человека, которому долгое время не давали честно рассказать то, что ему важно.
Но наступает вечер. И когда часы подводят пусть маленькую, но глубокую черту под прожитым днем, черту-однодневку, она бы ответила иначе. С приходом сумерек все вокруг начинает дышать насыщенным раствором: и мысли, и время, подтекающее, как кран на кухне, и вера, которой при солнечном свете не было совсем, а тут вот раз – и даже не знаешь. Остаток дня в квартире загустевает, как забытый на плите суп с лапшой. Вот так и Вероникина вера по вечерам плавает в супе ее мыслей сверху кругами желтого жира.
Вероника подбирает ускользающие слова. Путаясь в них, она не сразу понимает, что Луиза как раз совсем не ждет от нее глубины. Бросаешь камень в воду – считай круги… Утренняя атеистическая ясность ей приятнее. И Луизе привычнее. Не надо идти дальше чашки с кофе. И у Вероники, и у квартиры, окна которой выходят на шумную улицу над железной дорогой, переходный период.
Луиза восхищает Веронику. Мадам строит планы, уточняет каждую деталь, чтобы потом целенаправленно устремиться именно туда, куда решила заранее. Рядом с ней Вероника чувствует себя слишком медлительной, слишком абстрактной, слишком тухло и старомодно библиотечной. Луиза весело отбрасывает взмахом руки шелуху ненужной философии. Потом однозначно ставит, как шахматные фигуры, самые простые слова, заводит ключиком механизм жизни. И вот уже вытянутая квартира на втором этаже московского блочного дома превращается в парижское кафе, наполненное французским шармом и удовольствием от самых обыденных вещей.
Вероника начинает смотреть на все Луизиными глазами: будь то семейный сервиз с выщебленными краями блюдец, на которых гостья вдруг замечает маленьких птичек, или отполированное ее умелыми руками старое пианино. Переставленные ею фарфоровые кошечки теперь подхватывают тепло утренних солнечных лучей. А чего стоит попытка сотворить фондю на проснувшейся от незнакомых запахов кухне!
Когда-то и мать была такой же. А потом она стала проживать каждый день, как маленькое Nota bene в конце, постскриптум, который в русской традиции начинается со слова «кстати». Это когда уже все почти разошлись, а ты вдруг вспомнил что-то и окликаешь в спину. А никто уже не слышит, – проверяет, не забыл ли перчатки, и спускается по лестнице, думая лишь о том, как доберется наконец до дома. Остаток жизни, который всем всегда некстати. Вероника постоянно об этом думает, сравнивает, вспоминает, растворяясь в том новом свете, который принесла с собой еще вчера ей незнакомая женщина.
«Так ты веришь в бога?» – Луиза не унимается. Для нее это почему-то важно. Вероника удивляется. «Вот ведь, приехала в Россию и спрашивает о боге… Он же не мог здесь появиться за какие-нибудь пятнадцать лет! Само собой, полно тех, кто достал из сундука, встряхнул, может, в химчистку снес, а потом и повесил бога на стену… Или просто купил – так проще. Есть, конечно, люди, которые смогли пронести и сберечь веру за минувший век, но точно не в сумасшедшей столице. А если даже и тут, то они как в советское время были тихи, так и сейчас никому ничего не навязывают».
Она так мало знает о своей стране. Когда Луиза говорит «у нас во Франции», Вероника отвечает «у нас в Москве». И Вероника снова, как обыкновенно для нее, не умеет сразу сказать «да» или «нет». Она начинает плести кантовские макроме про разные стороны и взгляды, а потом напоследок подштамповывает общегазетными – про уважение ко всем религиям, про интернационализм.
Хорошо, что тетушка не слышит. После смерти матери, при отсутствии других родственников, нуждающихся в ее помощи, тетка Полина стала еще набожнее. Когда она навещает Веронику, придирчиво разглядывает Луизу. Говорит по-русски громко, будто обращается к плохо слышащему человеку:
– И как вам Москва? Нравится? Небось в Париже вашем не так красиво! И метро такого нет!
Луиза смеется и кивает. Дарит Полине какой-то сувенир, от которого та отказывается.
– Не надо мне! У меня много всякого, ставить некуда! – кричит она, уверенная в том, что иностранке так станет понятнее.
«И что это за манера у них такая, – Вероника недовольна. Ей неудобно перед гостьей. – Ни слова в простоте, ни улыбки в ответ. Человек ведь дарит от чистого сердца»! Сама не замечая, она объединяет тетушку, мать и всех старперских родственников в одно целое вместе с советским подозрительным прошлым.
* * *
Однажды Луиза застает ее совершенно врасплох вопросами о детях.
– Ты любишь детей? А ты хотела бы их иметь? А сколько?
Вероника краснеет. Ей не хочется отвечать. Не будет же она рассказывать об аборте, который сделала еще будучи замужем! Она была тогда совсем не готова восторгаться розовыми пяточками. Она не хотела заводить ребенка от украденного мужа. «Еще успею, – думала в тот момент Вероника, не говоря никому о беременности. – Надо бы разобраться со всем, с собой в первую очередь, привыкнуть к молчащему телефону, обустроиться в новой реальности, нарастить жирок позитива, а потом уж и рожать… Если это так необходимо».
Она старается ответить однозначно, что, дескать, конечно, положительно относится, но пока не было, как говорится, случая подумать конкретнее…
Потом размышляет, не подозрительно ли быстро поспешила отмести все дальнейшие распросы, не очень ли резко выразилась, не слишком ли небрежно прозвучали ее слова… Надо было предвидеть такие вопросы и подготовить ответы. Она чувствует, как краснеет. Луиза слушает, не перебивая, и с пониманием кивает. Что думает гостья на самом деле, Вероника не знает. Они отправляются пить чай, который все чаще сводится к бокалу Pinot Grigio.