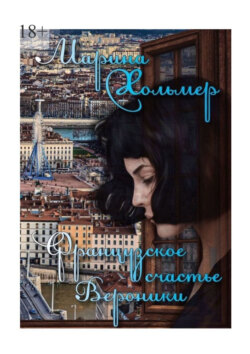Читать книгу Французское счастье Вероники - Марина Хольмер - Страница 2
Часть I
Ника, Верка, Véronique
глава 1.
Закрой окно, Вероника!
Оглавление«Окно! Закрой окна! Закрой! Верка! Вера, закрой окно!»
Вероника бросает бутерброд и резко ставит чашку на стол. Горячий чай выплескивается на руку. На животе растекается пятно. «Черт! Черт! Черт!» – Вероника трясет футболку, отодвигая мокрый жар от тела. Так и несется в комнату, приподнимая на бегу неприятно липнущую ткань. Мать кричит, стучит чем-то по табурету и по всему, куда может дотянуться.
– Мама, что снова случилось? Какие окна? Они закрыты! – уговаривает ее дочь, отодвигая табурет. Мать пытается его с ненавистью толкнуть, но не дотягивается. Она рывками приподнимается, а потом в изнеможении падает на постель.
– Вера! Была гроза! – Мать тяжело дышит. – Окна распахнулись! Ты что, сама не видишь? Все залило! Иди туда, закрой! Не стой тут, зачем стоять-то? И не хватай меня! Я знаю, что говорю!
Вероника оставляет ее, понимая, что история с распахнутыми окнами, которых мать почему-то боится, сама по себе не закончится. Она подходит к окну. Раздраженным рывком раздвигает шторы. Считает мысленно до пяти, глубоко вдыхая и с силой выталкивая из себя спертый воздух комнаты.
– Мама, вот, смотри. Видишь? Окна закрыты. И нет никакой грозы. Все тихо. Тебе приснилось, наверное, что-то плохое – вот и гроза и…
– Закрой! – упрямо и с нескрываемой злостью требует мать. Она приподнимается на локте и смотрит на дочь желтыми глазами. – И давай, иди, возьми тряпку и вытри пол. Вон, я вижу, залило весь паркет. И не спорь со мной, Вера! Как была ленивой, так и осталась. Грязью зарастешь… Вот когда я была в твоем возрасте, я всегда матери помогала… И у нас был порядок, чисто, все зашито-заштопано… Сейчас не так… И окна-то нормально закрыть не можешь – всегда раскрываются, как дождь… Вот как раз только что и была такая гроза. А мать не видит, не слышит… Прямо дуру из меня делает…
Мать переходит на ворчливое бормотание с редкими вкраплениями-окриками: «Верка, бу-бу-бу-бу… Верка, окна! Бу-бу-бу-бу-бу… Окна». Но и они теряют силу. Мать сползает вниз, на подушку, которая мягко принимает ее горячечную голову на свои белые берега. Вероника стоит у окна, спиной к комнате, вглядываясь в темноту. Пусть она ленивая, пусть… Она не будет спорить… Она знает: нужно чуть-чуть еще подождать – и мать успокоится, повернется на бок, к стене, и заснет. Каждый раз повторяется одно и то же. Дались ей эти окна!
* * *
Мать может оставаться одна, но не хочет. Вероника уверена, что все не так плохо, а эта навязчивая идея про распахнувшиеся от грозы окна и залитый пол – всего лишь игра, игра для привлечения внимания. Она не верит, что мать стала такой на самом деле: с упадком сил, несдерживаемыми приступами ярости, галлюцинациями, мешаниной из дат, людей и дней недели. Почему такое происходит именно тогда, когда остается с матерью она, Вероника? Это перед ней разыгрывается спектакль. Это для нее сгущаются краски. Это ее мать заставляет чувствовать себя ничтожной и виноватой, чтобы потом требовать выполнения любого старческого каприза. Это ей должно стать стыдно, когда она куда-то отлучается, даже если совершенно не нужна для сопровождения матери по дневной круговерти. Вероника старается не отвечать. Она замыкается в себе. Душа погружается на темную глубину. И оттуда она глядит, как ее жизнь улетает наверх, далеко, куда-то туда, к голубому лоскуту недосягаемой свободы.
Тетушка, неблизкая родственница, одинокая и добросердечная, не жалуется ни на окна, ни на приснившуюся матери грозу, ни на старческие капризы. Она призвана сюда племянницей и Божьим промыслом, как она сама всем тихо говорит, и смиренно качает седой головой. Вероника допытывается, задает разные наводящие вопросы, заходит то справа, то слева. Ведь на прямые и конкретные пожилая женщина бессменно дает одни и те же, самые благодушные ответы. «А ничего особенного не происходит. Все спокойно, мы разгадывали кроссворд», – говорит она. Или так: «Мы читали и смотрели программу по телевизору, очень интересную. Эту, ну, ну которую еще и на прошлой неделе… Не помню, какую»…
Да, что они вместе читают и что смотрят, не помнят ни тетка, ни мать, которая получает истинное удовольствие от управления родственницей, как послушной старой лошадью.
Тетушка со всем соглашается. Она терпит или обладает таким истинным, из истоков, христианским пониманием ближнего, что не позволяет себе жаловаться на страдания. Оставаясь у них ночевать на узкой продавленной раскладушке, придвинутой почти вплотную к материной кровати, чутко вскидывается ночью на любой призыв или стон. Мать удовлетворенно засыпает, получив чаю – обязательно из любимой чашки с размашистыми розами. В любой другой – не в розах на фарфоровых стенках – мать отказывается принимать чай из добрых рук. Может и опрокинуть, а потом насмешливо, как кажется Веронике, показно-смиренно просит прощения.
Или мать вообще ничего ни от кого не хочет, а только, вскрикнув или глубоко вздохнув, поворачивается на другой бок. Тетка же немедленно вскакивает и бросается к ней – хорошо, что недалеко. Садится на край кровати, не зажигая света. Нащупывает в скользящих по комнате ночных наэлектризованных отсветах руку матери или сползшее одеяло. Вероника слышит, как она настоятельно рекомендует матери повернуться именно на правый бок. Представляет, как тетушка поглаживает ее плечо, подтыкает одеяло и с готовностью ждет хоть какой-нибудь просьбы. Мать, со сна не разобравшись и вовсе не желая просыпаться ни на чай, ни ради правого, правильного бока, посылает добрую тетушку заняться своими делами, если не спится.
Вероника после такой несправедливости успокаивает расстроенную женщину, отпаивает на кухне чаем с мармеладом и всячески рекомендует не поддаваться на материны провокации. Тетка мелко кивает, пьет горячую, чуть подкрашенную дважды использованным чайным пакетиком воду. Подпирает щеку дрожащей от обиды рукой. Через день или ночь все повторяется снова.
Изредка она собирает свои непонятно чем всегда наполненные сумки. Говорит сама с собой, полуразборчиво, но всегда умиротворяюще, и суетится больше обычного. Поглядывая искоса на мать, тетушка дожидается, пока та заснет или просто отвернется ото всех, всем своим видом, взглядами и вздохами показывая усталость от постоянного, до приторности навязчивого ухода. И только потом потихоньку, стараясь не наступить на скрипящие у кровати паркетины, тетка начинает двигаться, почти отползать к двери и дальше, дальше, в прихожую, чтобы, проскользнув темной бесформенной массой по лестничным пролетам, раствориться через пару минут в синеве улицы.
Мать, если не спит, в первые минуты с облегчением вздыхает. Потом щелкает пультом в поиске душещипательных сериалов, которые тетушка обычно осуждает и норовит подменить на концерты классической музыки. Но уже через полчаса мать начинает звать Веронику, придумывая разные нужные и ненужные просьбы. Выжидающе стянув рот в одну жесткую линию – молнии не хватает – мать смотрит в одну точку на ковре. Что бы дочь ни делала, все не так, не вовремя, несовершенно, через силу, сама-то никогда не поймет, что нужно. Приходится просить любую мелочь, напоминать о самом простом… Мать не хочет ни в чем уступать, тем более что верная Полина ее на время, но бросила. Она убеждена в своем праве, требуя внимания и заботы. Пусть старается, на то она и дочь.
Вероника возвращается как-то домой чуть раньше временного стыка между уходом родственницы и своим привычным часом. Она тихо входит и, замерев с ключами в руке, слышит, как на кухне громко закипает чайник. Через несколько секунд сдвигается со скрипом стул. Голос матери отчетливо и властно произносит: «Понаставили тут всякого, пройти негде. Хочу чаю. И к чаю чего-нибудь… Верка, как всегда, ничего не купила вкусненького! Ан нет, вон пряники наверху! Дай-ка, дай-ка мне сил, достану или нет?» После этих слов что-то падает, звенит, а потом – наверняка кулек с пряниками, не иначе – бухается нечто мягко-тяжелое и шуршащее.
Вероника сливается с темнотой прихожей, затаив дыхание от любопытства и приоткрытия истин, а потом громко хлопает входной дверью: «Мам, это я! Пораньше освободилась! Как тут у вас дела?» Она почти распластывается на полу и подглядывает снизу за тем, что происходит на кухне. Многого она видеть не может. Зато совершенно отчетливо ощущает, как взметнулись над кухонным столом зеленоватый испуг и паника матери, застигнутой врасплох. Блаженный момент!
Когда Вероника, подождав чуть-чуть, выходит на свет, мать уже сидит, грузно осев, в углу, в изнеможении опустив руки.
– Вот, – тихо, с придыханием произносит она, – а я тут одна… Полина ушла, чаю мне не сделала… Самой пришлось… Еле дошла… Посижу уж тут немного, если дошла. Хоть чаю попью, как человек, за столом. А ты иди, руки мой, раздевайся там… Поужинаем…
– Все в порядке, мам? – Вероника делает обеспокоенное лицо, несмотря на то, что не верит матери ни капельки.
– Ох, – она тяжело выдыхает, – да сама толком не пойму. Какое уж тут в порядке? Вроде бы мне поначалу было ничего, и даже голова не кружилась, а как дошла сюда, так все силы и ухнули куда-то.
Вероника наливает ей чаю. Ей кажется, что чашка хрипло скрипит, принимая горячую ношу, а розы еще больше краснеют.
– Посиди со мной, доченька, – нежным голосом просит мать, оглядывая критическим взглядом ее джинсы, рубашку и лицо почти без косметики. – Куда ходила-то? Работу искала? И как? С кем-то приличным встречалась? Что ж ты мне ничего не рассказываешь, не говоришь со мной, как будто мы не родные… Все с подружками, небось, обсуждаешь, а со мной ни слова…
Вероника вздыхает. Только начни что-то рассказывать, только поддайся на эту располагающую к откровенностям задушевность, только поверь в то, что ее жизнь, которую мать приговорила к гильотине после развода, может еще трепыхаться и даже заново учиться летать, – пропадешь. Сколько раз ей хотелось поделиться с матерью, как раньше, в юности, разными радостями и сомнениями, сколько раз хотелось почувствовать почти забытую нежность, интерес… И делилась. И рассказывала. И ставила матери ее любимые французские песни Джо Дассена или Мирей Матье. И слушала в который раз про то, как по Москве разгуливали модели Christian Dior, чему мать в далеком 1959 году стала счастливой свидетельницей.
Через пару часов или через пару дней все, что она, разомлев от вечернего чая, дарила, как нежнейший кусочек бисквита, летит ей в голову. Ее откровения возвращаются бумерангом. Правда, за время полета семейный бумеранг успевает сменить цвет и отточить края. Когда он, с неизбежностью приближаясь, обрушивается на нее с хорошо отмеренной силой и точностью, становится больно до рези в глазах. Слова застревают в горле. Их можно только выплюнуть, выхаркать потом со слезами и размазанной тушью.
Вероника зарекается: ни за что больше матери ничего не рассказывать. И каждый раз ее тянет на огонек вечерней полузабытой близости, как ночную бабочку на обманчиво теплый, но губительный свет лампы. То, что не так давно пряталось от чужого взгляда, вспорото, задето острым краем жестокой правды и теперь пачкает липкой местью. Раны кровоточат и долго не заживают. Мать знает, куда бить и когда.