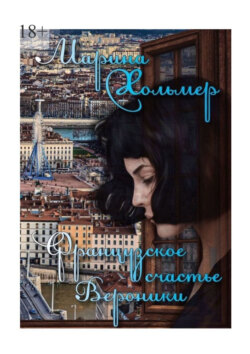Читать книгу Французское счастье Вероники - Марина Хольмер - Страница 21
Часть I
Ника, Верка, Véronique
глава 20.
Мужчины Луизы
ОглавлениеКаким удивительным образом все закрутилось! Вероника просыпается с ощущением счастья. Она размышляет о том, что, не согласись она на предложение Ирины поселить у себя в осиротевшей квартире незнакомую мадам, так и осталась бы сидеть среди осколков прошлого. Мы так одиноки в этом мире, отчего же не дать себе шанс?
Вероника почти не вспоминает свое неудачное замужество. Оно стерлось, оставив еле видный, тонкий флер разочарования, такой же неяркий, туманный, как и выторгованное поначалу чувство свободы. Мать его потом, конечно, раздавила, раскатала… Что было, то было. И главное – боль от потери подруги Веры и других друзей московской юности сейчас уже не так покалывает сердце, как раньше. Воспоминания укладываются в альбом слоями, старыми фотографиями, на которых случайно замечаешь полустертые надписи и даты. Вероника старается листать все это в памяти пореже, а то и вообще берет и убирает мысленно на антресоли. Возвращаться к оставленному в Москве не хочется.
Возможно, благодаря стараниям Луизы и объединяющему пространству, они с Жан-Пьером двигаются друг к другу. Шаг вперед – остановка – еще шаг. Шахматная партия. Новые вкусы на кончике языка. Тепло большой квартиры в шестом округе Лиона накидывает на ее плечи уют.
Вероника просыпается и прислушивается к звукам. Дом плывет кораблем по лионским бульварам. Он захватывает в свои сети всех, кто поднимается по гулкой лестнице и остается здесь, в его приглушенном пуфами бархатном мире, дольше, чем на вежливый кофе. Потом Вероника в утреннем узнавании начинает различать голоса. Вот знакомый, Луизин, – свежий, приправленный радостью, а потом – и Жан-Пьера, ей пока непривычный, гудящий на низких нотах, взвешенный, иногда с хозяйской своевольностью. Они, наверное, уже ждут ее к завтраку. Вероника вскакивает и бежит в ванную, стараясь не попасться им пока на глаза. И уже приодетая входит на кухню, испытывая неловкость за долгий сон.
Вероника видит огромную любовь матери к сыну, которую она отмечает с неожиданным уколом ревности. Глупость какая! Любви хватит на всех! Ей хочется стать здесь своей, влиться в сосуд квартиры небольшой, но нужной, освежающей струей.
Они строят планы на день. Луиза смотрит на нее весело, с безоговорочным одобрением, и это захватывает. Ради такого взгляда можно совершать подвиги. Вероника вдыхает аромат позднего утра, кофе, недостаточно крепкого, но терпимого, сдобный запах круассанов… Это запах Франции. Той Франции, какую она впитывала из восторгов матери и ее подруг, учила на уроках вместе с глаголами, которой восхищалась, смотря по много раз старые фильмы и листая случайно попавшие в руки модные журналы с неземными красотками на фоне Эйфелевой башни.
Еще ее переполняет чувство благодарности к тем, кто в порыве гостеприимства готов бежать утром в булочную, чтобы принести яблочные слойки и хрустящий багет к завтраку. Она дает себе слово ответно сотворить что-нибудь этакое на ужин. Доброта струится вокруг мягким солнечным светом. И наступивший день снова обещает счастье.
Веронике интересно все. И она раскладывает информацию, как хороший секретарь, по ящичкам своей памяти, составляет невидимую картотеку, уточняет детали. Все равно ей кажется, что она знает очень мало о семье, к которой ее прибила насмешливая и непредсказуемая судьба. Вот, например, бывший муж Луизы, отец Жан-Пьера. Почему о нем говорят здесь до неприличия мало и неохотно? Где он вообще? Жив ли? Будет ли рад ей так, как рада мадам?
Еще в Москве Луиза вскользь прошлась, как тронула легким пальчиком кружево, по семейным историям. И если про своего papà говорила пусть немного, но с любовью и охотно, то о муже обмолвилась лишь раз.
– Ma chérie, – она посмотрела при этом куда-то вдаль, поверх деревьев в московском пустынном дворе, как через время и расстояние, – он был интересным человеком, но слишком юным, чтобы отвечать за меня и сына. Юным, знаешь, в душе. Такие мужчины до конца дней остаются мальчиками, в постоянном противостоянии с родителями, с миром взрослых. И даже не замечают, что сами стали взрослыми, сами стали родителями, – ведь ни отвечать, ни нести ответственность за других так и не научились. Мой отец, – она вздохнула, – не принял его. А Лоран и не старался понравиться. Он требовал, чтобы я порвала со «стариками», как он порвал со своей семьей.
Мы жили отдельно – в маленькой квартирке, которая… которую отец купил, как сейчас модно говорить, в качестве инвестиций. Сдавал, а потом отдал нам. Бесплатно. Жить с Лораном было сложно. Его просто никогда не было дома. Я ждала, потом ревновала, потом злилась, потом снова ждала и была готова на все, лишь бы он пришел. А он постоянно указывал мне, что я – та самая буржуазная сволочь, с которой они, студенты шестьдесят восьмого, борются. Я поначалу пыталась доказывать ему, что я с ним, с ними, что я одна из них, что я тоже не хочу жить в мире подавления личности. Я говорила, что я, как и он, тоже считаю все кругом устаревшим и отжившим: дидактизм лекций, унижение экзаменов, диктат родителей, кондовые принципы старого мира одним словом.
Мы тогда предлагали все перемешать, сделать обучение таким, знаешь, сейчас это популярно, – интерактивным, вот. Сегодня все носятся с какими-то проектами, работой группой, в команде, а тогда еще все шло по старинке, с суровой дисциплиной. Да и честно говоря, если кто-то скажет, что в любое время можно без зубрежки и конспектов получить хорошее образование, а потом еще и устроиться на приличную работу, мне делается весело. Я не верю в чудеса. И еще становится обидно – я была тогда такая глупая! – за дымом протестов и желанием все разрушать не видела реальности. Головастики не могут учиться друг у друга. Только потеряют время, как я, и самих себя. А время дорогого стоит. Ведь это только кажется, что в юности его бесконечно много…
Мы вместе ходили в университет – тогда, на волне шестьдесят восьмого года, с постоянными манифестациями, протестами, акциями неповиновения: «Разберем по кирпичикам ненавистный мир наших отцов»! Хотели взорвать надоевшую систему, разорвать парадигму повиновения старшему поколению. Это Лоран так говорил! Меня даже сейчас еще восхищает его удивительное чутье к словам, к тому, как из них сделать манифест. Ты, наверное, поймешь это даже лучше меня – с твоей работой в рекламном деле… Так вот Лоран скоро стал активным членом профсоюза. Он был старше меня, впитал, можно сказать, все эти идеи прямо из самого сердца протестов. Прибегал, хватал меня и кричал: «Кончай тут сидеть, все равно эти старые пердуны-ретрограды никого ничему не научат! Мы все сделаем по-новому! Надо уметь смотреть в будущее»!
Конечно, его отчислили – он же не учился. Он еще пошумел по привычке, но его приятели, в отличие от него, покорно вернулись в аудитории. Лоран вынырнул из шестьдесят восьмого и столкнулся с неприятной реальностью, в которой надо было зарабатывать деньги, и с холодным, требовательным взглядом моего отца. Я ведь тоже не доучилась… А потом уже и Жан-Пьер родился, стало не до того. А Лоран со временем сделал протесты своей профессией: один профсоюз, другой… Ни секунды не работал, зато активность взрывалась фонтаном нефтяной скважины – ожиданий много, но рядом лучше не стоять. Лоран защищал трудящихся… Если он и приходил домой, то обязательно с толпой друзей… А я в спальне с Жан-Пьером… Они шумят, кричат: «Не допустим! Мы им покажем!» Малыш плачет. Электричество второй или третий месяц не оплачено, того и гляди останемся без света. Тогда с этим было строго… Стыдно. Ну я и вернулась к родителям.
Отец был в ярости. Он, человек, который любил Советский Союз, цитировал по памяти Ленина, верил в идеи социальной справедливости, называл Лорана анархистом и вредителем.
– Вы не понимаете, – говорил он, когда мы беседовали еще почти спокойно, все вместе, – чем больше вы стараетесь разрушить устоявшийся порядок, тем больше властьпредержащие начинают защищаться. Нет, они все реже выйдут громить ваши баррикады, не будут даже спорить с вами – бессмысленно, да и возраст со статусом не позволяют. Им есть что терять в отличие от вас. Бросив вам кость в виде ваших же излюбленных демагогических лозунгов типа «равенства и братства» или женщинам право на длительный отпуск по уходу за детьми, они сделают так, чтобы их капиталы не только не пострадали, но и были надежно защищены от таких, как вы.
Одной рукой они будут вам подбрасывать подачки, потакать профсоюзам, заключать с вами сделки, а другой – уводить свои капиталы из-под угрозы, объединяться, создавать интернациональные корпорации, страховать риски, инвестировать в вечно прибыльное, землю к примеру, а то и в саму политику. Чтобы уже наверняка застолбить себе и своим потомкам место под солнцем, что бы ни случилось. И это все ударит по самим трудящимся. Не сейчас. Потом. Сейчас вон – промышленный бум, рабочих рук не хватает, людей завозят даже из бывших колоний. А вот лет через тридцать – я не доживу – вы увидите, как проснетесь в другой стране, где защищать будет уже некого. И ничего своего у вас не останется. Будет невыгодно платить французам столько, сколько требуют профсоюзы. Да и что это за защитнички? Они получают от предприятий разные выгоды, живут под их крышей – разве они могут грызть дающую руку? Так, игриво прикусить, чтобы пользу свою отработать и себе что-то поиметь».
Умный человек был мой отец. К тому времени он типографию, которой владел, уже продал. И был зол на профсоюзы – они, как он говорил, пустили метастазы везде, совратили нереальными проектами и его работников. А он-то еще до войны начинал в этой типографии учеником, после войны – мастером, а потом и выкупил ее, стал полноправным владельцем.
Вероника тогда спросила:
– Как так получается: отец одновременно был и бизнесменом, и грезил социалистическим братством? Разве так бывает?
– Да какое там! – махнула рукой Луиза. – Какой он бизнесмен? Хозяин небольшой типографии. Сегодня уже такой маленький бизнес, как у него, давно съеден большими акулами. Вот кто капиталист! А он заботился о своих работниках, помнил, как по молодости сам ничего не умел, учился… Но выгода ведь тоже должна быть! Кто будет оплачивать счета? А краску покупать? А машины чинить? Горлопаны? От того, что он продал типографию, ведь никому лучше не стало! В результате все, включая тех, кто кричал громче всех, остались ни с чем.
Мсье, который ее купил, были нужны просто стены и выгодное место – для автосервиса. Кто бы отказался от автосервиса в центре города? И всё, пожалуйте все на выход. Доборолись. Отец им так и сказал на прощанье: «Пусть ваши профсоюзы теперь вас кормят». И впал в самую настоящую депрессию. У него и без того было плохое здоровье после войны, он часто запирался у себя в кабинете, не разговаривал ни с кем по несколько дней… Мы ни гостей не принимали, ни сами почти никуда не ходили. Тяжелый он был человек… И сердце, надорванное тем, что ему пришлось пережить, начало подводить. А тут еще пошло прахом дело всей его жизни! Больше он уже ничего не начинал, никакого бизнеса. Со своими бывшими сотрудниками старался не встречаться. Вложил деньги в недвижимость… Небольшую.
Вероника больше не спрашивает о двух мужчинах в жизни Луизы, ушедших в прошлое мужчинах. Она была сильно привязана к отцу. А вот про бывшего мужа говорит одновременно с презрением, терпением и обидой, подернутой пленкой времени, которая многое сглаживает. Иногда в словах мадам слышится и ностальгическая нотка – то ли по давней любви, то ли по молодости на баррикадах. Это сегодня она такая величественная, справедливая… Веронике с ней спокойно и надежно. Все прежние страсти улеглись. Совсем другое дело, когда заходит разговор о Жан-Пьере. Лицо Луизы озаряется. Она рассказывает о том, какой он удивительный мальчик, а потом рисует волшебные картины с обещанием общего будущего. Вероника слушает, и разговор в парке, оставивший в памяти случайную горечь, ей кажется неправильно понятым.