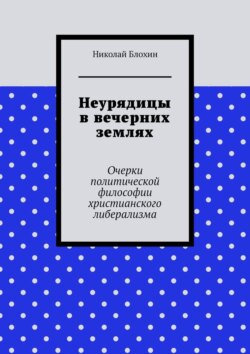Читать книгу Неурядицы в вечерних землях. Очерки политической философии христианского либерализма - Николай Блохин - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Коллективное насилие, идеология и власть
ОглавлениеТак сложилось, что отправной точкой для моей работы над этой темой стали некоторые идеи А. А. Зиновьева, высказанные очень неоднозначным советским философом в его «антисоветский» период. Трактаты Зиновьева, написанные в 1970-е – 1980-е гг., интересны не анализом социальной структуры и системы управления СССР – об этом он не говорит практически ничего нового по сравнению, например, с Михаилом Восленским. Однако Зиновьев предложил интересную идею «коммунальных отношений» и описал, как конкретно эти отношения функционируют внутри типичных «клеточек» советского общества – трудовых коллективов.
С одной стороны, в коллективах, описанных Зиновьевым, есть «активисты», не имеющие формальных полномочий, но на деле играющие важную роль. Это люди, создающие «внутреннее общественное мнение коллектива», «распускающие слухи и сплетни», «составляющие негласные досье на каждого члена коллектива»1.
На другом полюсе в коллективе находятся отщепенцы, изгои, те, кого коллектив дискриминирует или даже выталкивает из себя. Зиновьев подчёркивает, что выталкивание каких-то людей на роль отщепенцев – это не случайность, но постоянно присутствующий и необходимый в функционировании коллективов феномен. «Поразительным, однако, является не то, что коллектив расправляется с отщепенцем, а то, что он с необходимостью выталкивает какого-то своего члена на роль отщепенца. <…> Выталкивание подходящего человека в отщепенцы, одновременное стремление сделать его своим, затем – стремление дискредитировать и подавить его, наконец – исключение из общества, – все это суть необходимые элементы тренировки общества на монолитное единство»2.
Итак, под неформальным руководством «активистов» коллектив сплачивается, расправляясь с «отщепенцами». Зиновьев видел в этой динамике не культурную особенность позднего советского общества, а универсальное свойство любого человеческого общежития, которое лишь отчасти сдерживается и подавляется институтами цивилизации (правом, религией и т.д.). Может показаться, что это слишком широкое обобщение. Однако интуицию Зиновьева можно подтвердить данными из совершенно других областей, о которых он сам, скорее всего, не знал и не думал.
Школьная психология разных стран за последние десятилетия накопила огромное количество наблюдений и сведений именно об этом феномене. «Коммунальные отношения» Зиновьева – это не что иное, как пресловутый буллинг.
«Исследования показывают, что от 10% до 30% детей и подростков вовлечены в буллинг, хотя оценки распространенности буллинга сильно различаются в зависимости от того, как именно производится измерение <…> более того, буллинг – это не изолированное явление, характерное для отдельных культур. Большое количество исследований, проведенных в разных частях мира, свидетельствует, что буллинг распространен повсеместно»3.
Буллинг, по определению – это не просто конфликты между детьми и подростками, не просто агрессивное поведение. Это систематическая травля, причём травля слабых. «Асимметричное соотношение сил – вот уродливая суть и отличительная характеристика буллинга <…> Превосходящая и принуждающая сила, с помощью которой более сильный агрессор нападает на более слабую жертву – вот что отличает буллинг от других форм агрессии»4.
«Слабостью», которая делает ребенка или подростка жертвой буллинга, могут оказаться разные вещи. В одних случаях это просто физическая слабость. В других – некоторая обособленность в группе, отсутствие разветвленной сети друзей-приятелей. Или же это может быть какая-то черта характера или какие-то личные обстоятельства, из-за которых именно этот человек будет особенно болезненно переносить нападки и насмешки и т. д. Может быть много различных вариантов – но во всех случаях речь идёт о какой-то уязвимости, о каком-то «слабом месте», делающем человека легкой добычей для тех, кто его травит5.
Во многих случаях инициаторы травли используют буллинг, чтобы сплотить вокруг себя других детей/подростков. «Дети, занимающиеся буллингом, поощряют членов группы объединяться вокруг них, обозначать свою позицию, нападая на жертву, поддерживать сплоченность и единство их клики»6. При этом характерно, что буллингом могут заниматься весьма непохожие друг на друга субъекты. «В существующей литературе даются серьезно различающиеся описания тех, кто занимается буллингом: как легко взаимодействующих со своим окружением макиавеллистов <…> или как трудновоспитуемых [лиц], с проблемным поведением и с нарушениями психического здоровья»7.
Эту двойственность часто описывают, говоря, что буллингом могут заниматься как «социально интегрированные», так и «социально маргинализированные» личности. Первые могут отличаться от своих сверстников «более высоким социальным интеллектом и социальным статусом», в то время как для вторых характерны, например, «проблемы с поведением», «антиобщественные черты личности», «подверженность давлению сверстников», «тревожность» и «депрессии»8.
Но буллинг не поддаётся объяснению, даже если сказать, что заниматься им склонны личности не одного, а двух разных типов. Как инициатор / организатор травли, так и жертва травли – это не типы личности, а социальные роли. Один и тот же человек может играть разные роли в разные периоды времени или даже в одно и то же время, но в разной ситуации. «…те, кто регулярно занимается буллингом и те, кто регулярно оказываются жертвами – это две наименее стабильные подгруппы, и в течение школьных лет учащиеся играют в ходе буллинга разные роли <…> что касается различий в ситуации, то, например, учащийся может быть жертвой буллинга со стороны одноклассников в школе, но дома подвергать буллингу своих братьев или сестер»9.
В общем, буллинг – это не индивидуальная психопатология, а социальное отношение, социальная практика, к которой могут прибегать разные люди с разными целями. Его можно использовать, чтобы сплачивать группу вокруг себя, а можно – чтобы повышать свою самооценку.
Но что делает такую практику вообще возможной? Чтобы использовать вражду, для той или иной цели, нужно, чтобы вражда сначала возникла. Трудно не ощутить, что в буллинге есть нечто вызывающе иррациональное. Мы привыкли думать, что для серьезной, продолжительной вражды нужны серьезные причины; что если уж люди враждуют, то, вероятно, их интересы столкнулись в борьбе за какой-то ценный ресурс. Между тем, для начала буллинга вовсе не требуется, чтобы жертва была соперником инициатора травли, в каком бы то ни было отношении. Как мы видели, единственное, что требуется – это слабость жертвы, делающая её лёгкой добычей.
Учитывая как иррациональность буллинга (в указанном выше смысле), так и его кросскультурный характер, не может не возникнуть предположение о чисто биологических корнях этого явления. Мы ощущаем импульсы выстраивать иерархию в наших сообществах – так, как это делают и наиболее родственные нам животные (например, шимпанзе). Индивид следует этим импульсам, в той мере, в какой они (ещё) не преобразованы специфически человеческим аспектом личности.
Прежде чем согласиться с этой мыслью, её необходимо уточнить. Индивид нашего биологического вида (Homo sapiens sapiens) обладает качественно большей силой интеллекта, чем представители других биологических видов. Эта сила проявляется в том, что мы можем представлять себе вещи, которых не видим сейчас, или умозрительно конструировать то, чего не видели вовсе. Мы можем мысленно «работать» с этими конструктами памяти и воображения. Впрочем, их можно назвать и просто «конструктами воображения», поскольку известно, что память тоже использует силу воображения: достраивает, додумывает, воображает образы, отталкиваясь от ряда опорных точек10.
Способность представлять то, чего уже нет или чего ещё не было, позволяет человеку мыслить о прошлом и о будущем, планировать свои действия на длительный период времени. Эта же способность позволяет человеку придумывать новое, создавать культуру и жить в мире культуры, а не только в природной среде. Таким образом, эти особенности человеческого интеллекта резко отделяют нас от других живых существ, позволяют нам вести специфически человеческий, а не животный образ жизни.
Однако легко заметить, что склонность к буллингу – то есть, к систематической травле тех, кто слабее, этими особенностями человеческого интеллекта ещё никак не затрагивается. Скорее, верно обратное – человеческое воображение может воспламенять и разжигать отвращение или ненависть к жертвам буллинга.
Дело в том, что влечение и отторжение у человека тоже направлены на образы и представления, сконструированные воображением. Даже гастрономические или сексуальные желания, физиологическая основа которых наиболее очевидна, направляются именно на воображаемые объекты.
При этом, конечно, воображение работает не на пустом месте, но на основе впечатлений и образов, почерпнутых из личного опыта и/или из культуры (литературы, изобразительного искусства, кинематографа, шоу-бизнеса и т.п.).
Например, что происходит, когда человек (особенно молодой – но во многих случаях и зрелый) влюбляется? Включается воображение, и перерабатывает впечатление, произведенное новым знакомым или знакомой, в неотразимо привлекательный образ. И уже этот, созданный воображением образ, вызывает пылкую страсть. А в том, что воображение так активизировалось при виде именно этого человека, могут сыграть роль, как отголоски предыдущего жизненного опыта, так и впечатления, испытанные при просмотре каких-нибудь фильмов, чтении книг и т. п.
Воображением сконструированы не только объекты наших желаний, но и предметы, в которых мы видим источник угрозы. Часто бывает, что человек всю жизнь страдает от какой-нибудь иррациональной фобии перед пауками, муравьями и т.п., но недооценивает ту или иную реальную опасность. Его воображение превратило паука в нечто крайне страшное или крайне отвратительное, а о реальной опасности оно попросту ничего не знает.
Что делает человека счастливым, или, наоборот, несчастным? Не обладание какими-то «объективно ценными ресурсами» (абсурдность словосочетания «объективная ценность» давно, тщательно и подробно продемонстрирована в рамках экономической теории). Человек счастлив, доволен, высоко оценивает самого себя и свои действия, когда овладевает предметами, которые именно ему представляются как желанные, и когда одолевает предметы, именно ему представляющиеся опасными, вредными, отвратительными. Можно предположить, что если бы человек мог произвольно и сознательно, своим решением, выбирать и желанные и отталкивающие предметы, он всегда был бы абсолютно счастлив, выбирая только легкодоступные предметы желаний, и только легко устранимые источники страха и отвращения.
Но, конечно, человек не подбирает эти предметы по собственной воле. Они спонтанно конструируются и реконструируются воображением на основе предыдущего опыта – своего собственного опыта и опыта других людей, выраженного в текстах и образах культуры.
Тем не менее, в спонтанном функционировании человеческого воображения отчетливо проявляется тенденция «упрощать» нам жизнь, облегчая негативные, болезненные эмоции. Например, большинство людей относительно редко вспоминают, а вспомнив – редко задерживаются мыслью на смерти, хотя смерть неизбежно ожидает каждого из нас. Нам неприятно даже думать об опасных или отталкивающих вещах – и воображение направляется по пути наименьшего сопротивления. Вероятно, это же избегание сопротивления побуждает людей воображать в качестве врагов, источников беспорядка, или просто как неприятных типов, таких людей, которые заведомо уязвимы, заведомо слабее нас. Борьба с ними позволяет испытывать радость победы, не требуя высоких издержек.
Это, по-видимому, объясняет важнейшую характеристику буллинга – асимметричное соотношение сил. Буллинг – это борьба, которую ведут именно для того, чтобы почувствовать себя победителем с наименьшими издержками. Таким образом, буллинг вполне рационален – если только принять во внимание, что первичная цель буллинга – субъективное удовлетворение, а не овладение какими-то материальными ресурсами.
Впрочем, именно потому, что буллинг способен приносить субъективное удовлетворение, его можно использовать и для достижения других целей. Как упоминалось выше, буллинг может использоваться, чтобы сплотить группу вокруг инициатора – и, тем самым, повысить его (инициатора) социальный статус. Из сказанного выше логика этого процесса уже ясна. Инициатор буллинга, начиная травлю более слабого субъекта, делает явной слабость своей жертвы и, тем самым, создаёт соблазн для зрителей – испытать радость победы с заведомо низкими издержками, примкнув к более сильной стороне.
В такой ситуации воображению зрителей легко представить дело таким образом, что жертва действительно является неприятной, отталкивающей или даже опасной – и они присоединятся к травле с полной уверенностью в своей правоте. А общее дело, причем успешное и приятное, сближает людей, создаёт у них чувство общности.
Феномен переноса враждебности на заведомо слабого «козла отпущения» и сплочения группы общей враждебностью к этой жертве, обнаружил, независимо и от А. А. Зиновьева и от школьных психологов, известный французский литературовед и антрополог Рене Жирар.
Где он это увидел? Не в жизни советских людей и не в жизни школьников, а в античных мифах и в текстах Библии – с той разницей, что античные мифы обычно выражают точку зрения толпы, враждебной отщепенцу, а библейские нарративы встают на сторону жертвы, ясно утверждая её невиновность (ср. историю Иосифа и его братьев или историю Иова в Ветхом Завете, или историю самого Христа в Новом Завете).
Естественно, Жирар придумывает для этого феномена своё собственное название. Не «коммунальные отношения», как у Зиновьева, и не «буллинг», как в психологии, а «цикл миметического насилия»11. В ходе этого «цикла» конфликты между разными людьми внутри сообщества отходят на задний план – их вытесняет общая ненависть к «козлу отпущения», к отщепенцу, к жертве общей травли. «Существует взаимная конкуренция скандалов, которая продолжается до того момента, когда на сцене остаётся лишь один – вызывающий наибольшую поляризацию скандал. В этот момент сообщество мобилизуется против одного-единственного индивида»12.
Анализируя античные мифы, Жирар приходит к выводу, что именно из спонтанного коллективного насилия против отщепенцев вырастает известная большинству народов древности форма культа – жертвоприношение.
«Кровавые жертвоприношения суть попытки смягчить или умерить внутренние конфликты архаических сообществ, воспроизводя, как можно более точно, за счёт жертв-заместителей первоначальной жертвы, реальные насилия, которые в неопределимом, но отнюдь не мифическом прошлом действительно примиряли сообщества, благодаря механизму единодушия <…> хотя они отличаются друг от друга в подробностях, их основные структурные признаки – всегда те же самые, и именно модель коллективного спонтанного насилия их и вдохновляет очевидным образом»13.
Субъективную логику перехода от коллективного спонтанного насилия к регулярно повторяемому ритуалу Жирар объясняет тем, что люди запоминают то чувство общности, то переживание единства, к которому привело коллективное спонтанное насилие. Они интерпретируют этот опыт таким образом, что убитый оказался жертвой, угодной богам; что боги, получив эту жертву, даровали сообществу мир и благоденствие. Следовательно, принесение жертв нужно возобновлять регулярно14.
Очень возможно, что Жирар, увлекшись своей теорией, преувеличил фундаментальную роль жертвоприношений в становлении человеческой культуры. «Всё говорит о том, что ритуалы жертвоприношения появились первыми во всех сферах жизни в истории человечества <…> Всё то, что мы называем нашими „культурными институциями“, должно было первоначально произойти из ритуальных действий…»15. Настолько широкие обобщения просто напрашиваются на критику. Можно выдвинуть серьезные возражения и против идеи Жирара о всецело «миметической» природе человеческих желаний.
Однако есть некоторые вещи, которые можно считать достоверно установленными и помимо Жирара с его анализом мифов.
1) Спонтанное коллективное насилие против отщепенцев – это реальный феномен.
2) Отщепенец – это не тип личности, а социальная роль. На неё могут вытолкнуть любого человека, в каком-либо отношении уязвимого, имеющего слабые места.
3) Организатор/ инициатор коллективного спонтанного насилия – это тоже не тип личности, не должность и не социальный статус. Заранее неизвестно, кто в каждом конкретном случае выступит таким инициатором.
Спонтанное коллективное насилие, вспыхивающее в заранее неизвестный момент времени и случайным, непредсказуемым образом выбирающее своих жертв, несовместимо с упорядоченным существованием человеческих сообществ. Следовательно, любое человеческое сообщество должно иметь механизм, упорядочивающий спонтанное коллективное насилие и направляющий его в какую-то сторону, приемлемую для сообщества. Характерные для древних культов жертвоприношения действительно подходят на роль таких механизмов. Они подчиняют акты насилия определенному порядку и графику; вместе с тем, они позволяют заменить случайные жертвы специально подобранными. В большинстве случаев эти специально подобранные жертвы оказываются вовсе и не людьми, но живыми существами других биологических видов (хотя не всегда – многие культы разных народов подразумевали и человеческие жертвоприношения).
Здесь следует обратить внимание на двусмысленность, заложенную в самом ритуале. С одной стороны, он должен заместить спонтанное насилие упорядоченным, формализованным действием. С другой стороны, он не будет достигать этой цели, если станет слишком формализованным. Он должен быть достаточно гибким, чтобы давать выход человеческой враждебности и приносить переживание единства именно там и именно тогда, когда люди, составляющие сообщество, в этом наиболее нуждаются. Поэтому организация ритуала – это постоянное балансирование между упорядоченностью и спонтанностью. Тонкое искусство, владение которым дарует власть.
На самом деле, фигура носителя власти встречается здесь уже второй раз. Первым носителем власти был уже многократно упомянутый инициатор коллективного спонтанного насилия (буллинга). Но его положение неустойчиво; в этой роли может выступить если не абсолютно каждый, то очень многие.
Организатор ритуала, который знает, как именно, когда и кого приносить в жертву, чтобы это дало наибольший эффект – уже гораздо более могущественная и опасная фигура. Но поскольку это фигура не просто опасная, но и необходимая, сообщество не может допустить, чтобы доступ к этому положению был у любого случайного человека. Чтобы удостовериться, что распорядитель ритуала понимает, как использовать свою силу, и не направит её на разрушение сообщества, требуются фильтры в виде специального подбора кандидатов, длительного обучения, эксплицитно выраженного признания со стороны других, более опытных распорядителей. Так распорядители ритуала выделяются в отдельную социально-профессиональную группу. И эта группа становится, помимо прочего, группой носителей власти.
Но как дело обстоит в более поздних обществах? В культурах, отказавшихся от ритуальных убийств, от принесения в жертву богам, как людей, так и животных? Разумеется, здесь тоже есть механизмы, упорядочивающие коллективное насилие и направляющие его в определенную сторону. Выглядеть они могут по-разному, но в каждом таком механизме есть три структурно необходимых элемента.
Во-первых, здесь должен быть нарратив, описывающий реальность, в которой живёт сообщество, как арену столкновения сил добра и сил зла. Что именно считается добром, а что злом, зависит от содержания нарратива. При этом совершенно не обязательно, чтобы «силами зла» считались те или иные живые существа, как таковые. Силы добра могут вести борьбу со злыми духами, или с дурными, аморальными эмоциями, или с невежеством, или с дурными институтами и т. п.
Во-вторых, здесь должна быть некая практика, интерпретируемая как участие в сражении между добром и злом, описанном в базовом нарративе. Включаясь в эту практику, люди направляют свою враждебность против сил зла, обозначенных базовым нарративом, и переживают чувство общности с другими участниками борьбы.
В-третьих, здесь должны быть духовные наставники – знатоки базового нарратива и распорядители практики. Они могут называться и выглядеть по-разному. Это могут быть священнослужители или другие учителя, апеллирующие к религиозному авторитету. Это могут быть «властители дум», как это называлось в XVIII веке, партийные вожди, как это бывало в XX веке, «публичные интеллектуалы», «лидеры общественного мнения», как это бывает сейчас. В любом случае, они должны владеть искусством соотнесения человеческих действий, совершаемых здесь и сейчас, с базовым нарративом. Смысл этого соотнесения в том, чтобы люди давали выход своей враждебности и испытывали чувство общности именно тогда, когда они в этом наиболее нуждаются – но, чтобы для них самих действия, совершаемые здесь и сейчас, выглядели как участие в борьбе, описанной базовым нарративом.
Полагаю, что именно механизмы регулирования коллективной враждебности, включающие в себя эти три элемента, имеет смысл называть «идеологиями». Материал для своих нарративов идеология может брать везде, где найдёт. Она может использовать мировоззрение, основанное на той или иной форме обыденных знаний о мире. Она может использовать философское умозрение, религиозный опыт, научные или квазинаучные концепции. Но сама она не сводится ни к обыденному знанию, ни к науке, ни к квазинауке, ни к религии, ни к философии. Идеология – это именно механизм обуздания и управления коллективной враждебностью.
Сдерживая и направляя коллективную враждебность, идеология играет огромную цивилизующую роль – именно она создаёт любые человеческие сообщества, превосходящие по численности малые семейно-родственные или соседские группы. Общность, порождаемая сексуальной связью, общность родства, соседства, дружбы, делового партнёрства – все эти общности по самой своей природе охватывают лишь небольшой круг лично знакомых людей. Идеология же порождает чувство общности у совершенно разных и не знакомых лично людей, если только они участвуют в борьбе одного и того же добра с одним и тем же злом.
Вызывая это чувство общности, побуждая чужих людей, не связанных друг с другом никакими личными отношениями или интересами, относиться друг к другу, как к «своим», идеология делает возможным такое явление, как мораль.
Вместе с тем, поскольку идеология ещё и порождает власть распорядителей ритуала / знатоков нарратива / духовных наставников, есть все основания назвать её древнейшим и наиболее универсальным механизмом порождения власти.
Конечно, в человеческой истории разворачиваются и другие процессы, ведущие к установлению власти. Прежде всего, это процесс профессионализации военного дела, благодаря которому значительная сила сосредоточивается в руках предводителей профессиональных военных отрядов. Одни только идеологические механизмы, в отсутствие профессиональных военных отрядов, не способны создать то, что называется «государством».
Однако и в отсутствие идеологического механизма государства тоже не могут возникнуть и существовать. Профессиональные военные отряды – это тоже человеческие сообщества. Поэтому они тоже нуждаются в идеологических механизмах, чтобы поддерживать сплоченность и иерархию хотя бы внутри себя. А без внутренней сплоченности и иерархии они не смогут устойчиво господствовать над более широкими сообществами.
1
Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность // Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность; Кризис коммунизма. Москва, 1994. С.147.
2
Там же. С. 149—150.
3
Cook C. R., Williams K. R., Guerra N. G., Kim T. E., Sadek S. Predictors of Bullying and Victimization in Childhood and Adolescence: A Meta-analytic Investigation // School Psychology Quarterly. 2010. Vol. 25, №2. P. 65.
4
Rodkin P. C., Espelage D. L., Hanish L. D. A Relational Framework for Understanding Bullying: Developmental Antecedents and Outcomes // American Psychologist. 2015. Vol. 70, №4. P. 317.
5
Ibid. P.317.
6
Ibid. P. 312.
7
Ibid. P. 313.
8
Swearer S. M., Hymel S. Understanding the Psychology of Bullying Moving Toward a Social-Ecological Diathesis—Stress Model // American Psychologist. 2015. Vol. 70, №4. P. 345.
9
Ibid. P.344.
10
Roediger H. L., De Soto, K. A. Reconstructive Memory, Psychology of // International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. 2015 P.50—55. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868510162 (дата обращения: 12.01.2021).
11
Жирар Р. Я вижу Сатану, падающего, как молния. Москва, 2015. С.26 и сл.
12
Там же. С. 30.
13
Там же. С.87.
14
Там же. С. 88.
15
Там же. С. 100.