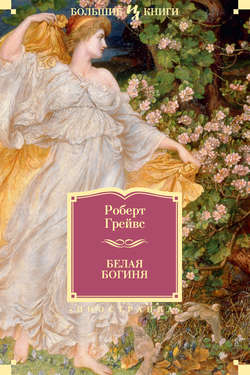Читать книгу Белая Богиня - Роберт Грейвс - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава первая
Поэты и менестрели
ОглавлениеС тех пор как мне исполнилось пятнадцать, поэзия стала моей главной жизненной страстью и я совершенно сознательно никогда не предпринимал ни одного начинания и не вступал ни в какие отношения, которые противоречили бы поэтическим принципам, чем заслужил репутацию эксцентрика. Проза давала мне средства к существованию, однако прозу я сочинял, чтобы обрести утонченную чувствительность к принципиально иной по своей природе поэзии, а выбираемые мною темы всегда были связаны с важными поэтическими проблемами. Сейчас мне шестьдесят пять, и меня по-прежнему занимает парадокс: как это, несмотря на все гонения, поэзия умудрилась выжить в современном цивилизованном мире? Хотя писание стихов и признают профессией, его не преподают в высших учебных заведениях, а его совершенство неизмеримо никакими критериями, сколь бы приблизительны они ни были. «Поэтами рождаются, а не становятся». Отсюда неизбежно следует вывод, что природа поэзии слишком таинственна, чтобы стать предметом строго научного анализа, и что она представляет собой тайну даже бóльшую, нежели королевская власть, поскольку королями не только рождаются, но и становятся. А в отличие от поэзии, слова покойного короля, произноси их хоть в церкви, хоть в кабаке, мало кого волнуют.
Этот парадокс можно объяснить высоким официальным статусом, который почему-то до сих пор ассоциируется в равной степени и с поэтом, и с королем. Кроме того, поэзия, презирая и отрицая всякий научный анализ, вероятно, берет начало в некоей магии, а магия пользуется сомнительной славой. Наши знания о европейской поэзии, по сути, действительно основаны на магических принципах, рудименты которых на протяжении веков составляли строго хранимую тайну эзотерических культов, однако в конце концов эти принципы были искажены, подвергнуты сомнению и забыты. Ныне лишь в редких случаях поэтам, стремящимся вернуться к духовным истокам, удается наделить свои строки магической силой, как это бывало в древности. Обыкновенно же современное стихосложение напоминает фантастические и заранее обреченные на неудачу эксперименты средневекового алхимика, который тщится превратить низкие металлы в золото, с тою только разницей, что алхимик, по крайней мере, узнавал чистое золото, когда видел и осязал его. Истина в том, что золото можно выплавить лишь из золотой руды, а стихи – лишь из настоящей поэзии. Эта книга посвящена обретению утраченных основ поэтической традиции и властвующим над ними живым принципам поэтической магии.
В основе моих доводов будет лежать детальный анализ двух необычайных поэм валлийских менестрелей XIII в., в которых хитроумно сокрыты ключи к древней тайне.
Чтобы ввести читателя в курс дела, необходимо для начала сообщить ему ряд исторических сведений, а именно пояснить разницу между придворным бардом и странствующим менестрелем Древнего Уэльса. Валлийские барды, то есть ученые поэты – хранители устной традиции, подобно поэтам ирландским, запоминали и тщательно анализировали целый корпус стихотворных сочинений, а затем передавали его своим ученикам, постигавшим у них тайны поэтического ремесла. Современные английские поэты, язык которых развился из живого разговорного языка позднего Средневековья, когда валлийская поэзия уже имела почтенную многовековую историю, могут задним числом позавидовать валлийским бардам. Ведь молодой бард был избавлен от сомнительной необходимости по крупицам собирать поэтические знания в процессе беспорядочного чтения, обсуждения стихов с друзьями, такими же дилетантами, и экспериментов со стихосложением. Впрочем, впоследствии ситуация изменилась, и только в Ирландии «ученый поэт» мог и даже имел право слагать новые стихи в старинном, исконном стиле. Когда валлийские поэты были обращены в христианство в его весьма жестком, консервативном изводе и вынуждены подчиняться церковной дисциплине (этот процесс, как свидетельствуют тогдашние валлийские законы, завершился к концу X в.), их традиция постепенно приняла закосневшие формы. Хотя от ученых поэтов по-прежнему требовали высокого технического мастерства, а так называемый Трон Поэзии был предметом страстного вожделения и соперничества множества поэтов при дворах различных правителей, они обязаны были избегать того, что Церковь не признавала истинным, то есть не позволять поэтическому воображению черпать темы в мифах и аллегориях. Отныне допускалось использование лишь немногих эпитетов и метафор, сходным образом ограничивалось число разрешенных тем и стихотворных размеров, а кинханед (cynghanedd), аллитеративный консонантный повтор с вариациями гласных[9], превратился в тягостное наваждение. Ученые поэты сделались неким подобием придворных чиновников, в обязанности коих входило, во-первых, славить Господа, а во-вторых – восхвалять короля или принца, который в ознаменование их заслуг воздвиг для них Трон Поэзии в своем пиршественном зале. Даже после падения валлийских принцев в конце XIII в. этих жестких и безжизненных поэтических правил все еще придерживались барды – приближенные валлийских аристократических семейств.
Т. Гвинн Джонс[10] писал в «Трудах Общества по изучению валлийских древностей» («The Transactions of the Honourable Society Cymmrodorion») в 1913–1914 гг.: «Немногие данные, которые мы можем почерпнуть из сочинений бардов, относящихся к эпохе вплоть до падения валлийских принцев, указывают на то, что система, детально описанная в Законах[11], по-прежнему сохранялась, но при этом, вероятно, совершенствовалась. Продолжает разрабатываться свод метрических правил, запечатленный в „Красной книге из Хергеста“ („Llyfr Coch Hergest“), а в XV в. в Кармартене проводится айстедвод (Eisteddfod)[12], непосредственно подготовленный этими реформаторскими усилиями… Существуют убедительные свидетельства того, что традиционный выбор тем, также закрепленный этим сводом правил, фактически ограничивающий творчество бардов написанием панегириков и элегий и налагавший запрет на эпические поэмы, распространялся и на придворных бардов (Cogynfeirdd). Их приверженность тому, что они полагали исторически достоверным, возможно, объяснялась давним и безраздельным владычеством над ними Церкви. Они почти не интересовались традиционными сюжетами популярных рыцарских романов, а имена мифических и псевдоисторических персонажей черпали главным образом из „Триад“… Пейзажная и любовная лирика играет лишь незначительную роль в их творчестве и почти не развивается в этот период… Упоминания природы в поэмах придворных бардов редки и небрежны, а если иногда природа все же изображается, то в самых суровых своих проявлениях: когда речь заходит о соперничестве суши и моря, о буйстве зимних бурь, о сжигании на горах весенней растительности. Характеры героев лишь бегло очерчены с помощью эпитетов, ни одно событие не описано подробно. Чтобы изобразить битву, придворным бардам хватает одной-двух строк. По-видимому, теоретическая основа поэзии, в особенности панегирической, заключалась для них в использовании как можно большего числа эпитетов и аллюзий, а также отсылок к сухим историческим фактам, очевидно известным их слушателям. Их произведения не содержали повествования, очень редко можно найти у них что-то, хотя бы отдаленно напоминающее связное описание отдельного эпизода. Именно такова была сущность большинства валлийских стихов, за исключением народных баллад, вплоть до самого недавнего времени.
Напротив, повести и рыцарские романы весьма красочны и строятся вокруг напряженных сюжетов; в них присутствуют даже характеристики персонажей, а фантазия, не скованная накладываемыми на тему и формальную сторону ограничениями, развивается и дает начало творческому воображению».
Эти повести входили в репертуар гильдии валлийских менестрелей, чей статус не определяли Законы; они не числились в друзьях епископов и сильных мира сего и могли писать на любом языке, на любую тему и любым размером. До нас дошло очень мало сведений о структуре и истории создания их гильдии, однако, поскольку молва наделяла их даром гадания и прорицания, а также способностью наводить порчу, сложив сатиру на оскорбителя, можно предположить, что валлийские менестрели – потомки исконных валлийских ученых поэтов, которые либо отвергли покровительство принцев, либо лишились его после завоевания Уэльса кимрами. Кимры, в которых мы привыкли видеть истинных валлийцев и из числа которых выходили гордые придворные барды, представляли собой племенную аристократию бриттского происхождения, угнетавшую неоднородную массу крепостных крестьян – гэлов, бриттов, племена бронзового и позднего каменного века и автохтонное население Уэльса; кимры завоевали Уэльс, вторгшись из Северной Англии в V в. н. э. Менестрели некимрского происхождения бродили из деревни в деревню, с фермы на ферму, развлекая слушателей летом под древесной кроной, а зимой у камелька. Именно они не дали погибнуть необычайно древней литературной традиции, воплощенной главным образом в фольклоре, где сохранились фрагменты не только докимрских, но и догэльских мифов, иногда уходящих корнями в каменный век. Их поэтические принципы кратко обобщаются в одной из триад «Красной книги из Хергеста» («Llyfr Coch Hergest»):
Поэт богат тремя дарами.
Сие есть мифы, власть над словом, сокровищница древних стихов.
Эти две поэтические школы поначалу не соприкасались, так как сытые и нарядные придворные барды не имели права слагать стихи в стиле менестрелей и подвергались наказанию, если заходили в дома простолюдинов. Тощие менестрели в лохмотьях не получали приглашений ко двору и не имели достаточной «поэтической квалификации», чтобы прибегать к сложным стихотворным формам, требуемым от придворных бардов. Однако в XIII в. менестрелям стали покровительствовать нормандско-французские завоеватели, очевидно под влиянием бретонских рыцарей, которые понимали по-валлийски и, услышав некоторые сказания, осознали, что перед ними – более совершенный вариант тех, что были знакомы им дома, в Бретани. Труверы, или «обретшие», перевели их на современный им французский, видоизменили в соответствии с провансальским кодексом рыцарской чести, и в этом новом облике они покорили Европу.
Представители валлийских и нормандских семейств теперь зачастую соединялись узами брака, и не пустить менестреля ко двору владетельного принца отныне было не так-то просто. В поэме, относящейся к началу XIII в., бард Филип Брэдид запечатлел свои словопрения с некими «невежественными рифмоплетами», оспаривавшими его право первым пропеть рождественский гимн их покровителю, принцу Рису Йейянку (Рису Юному), в Лланбадарн-Вауре, в Южном Уэльсе. Принц Рис был ближайшим союзником норманнов. Две поэмы XIII в., которые будут проанализированы ниже, написаны «невежественными рифмоплетами» – невежественными, по крайней мере, в представлении Филипа, твердо знавшего, что такое аристократический поэт. Они носят названия «Câd Goddeu» («Битва деревьев») и «Hanes Taliesin» («Поэма о Талиесине»).
К концу XIV в. литературное влияние менестрелей начинает испытывать даже придворная поэзия, и, согласно различным версиям бардовского устава XIV в. «Триады ремесла» («Trioedd Kerdd»), «прэдиту» («Prydydd»), придворному барду, дозволялось писать любовные поэмы, но не сатиры, пасквили, заклинания, ворожбу и магические баллады. Лишь в XV в. поэт Дэвид ап Гвилим заслужил одобрение, создав новую поэтическую форму – «кавид» («Kywydd»), которая объединяла традиции придворной поэзии и поэзии менестрелей. Как правило, придворные поэты не желали отказываться от устаревших принципов стихосложения и по-прежнему поносили «лживых рифмоплетов» и завидовали их успеху. Звезда придворных поэтов закатилась с упадком их покровителей, они утратили всякий авторитет в результате гражданской войны, когда валлийцы оказались на стороне побежденных, а вскоре после этого предпринятый Кромвелем завоевательный поход в Ирландию лишил влияния тамошних олламов («ollaves»), или ученых поэтов. Возрождение этого института в виде собрания бардов, «горседа» («Gorsedd»), на национальном айстедводе производило впечатление псевдоантичного театрального действа, тем более что его сопровождали превратно понятые в духе романтизма инсценировки друидических обрядов. Однако айстедвод немало сделал для того, чтобы общество не утратило некогда свойственное ему уважение к поэтам, а бардовский Трон по-прежнему остается для участников айстедвода предметом соперничества.
Английская поэзия знает лишь краткий период подчинения дисциплине, подобной своду правил бардов: это классицизм XVIII в., когда поклонники и подражатели Александра Поупа настаивали на строгой регламентации продуманного во всех деталях стиля, размера и «благопристойности» темы. Это строгое подчинение поэтической дисциплине вызвало яростную реакцию в виде «романтического возрождения»; затем последовало частичное возвращение к дисциплине, викторианский классицизм, затем еще более яростная реакция, «модернистская» анархия 1920–1930-х гг. Очевидно, современные английские поэты подумывают добровольно вернуться к дисциплине – не к смирительной рубашке XVIII в. и не к викторианскому сюртуку, а к логике поэтической мысли, которая придает поэзии силу и изящество. Но где им учиться стихотворным размерам, стилю и поэтическим темам? Где им обрести поэтическую власть, которой они могли бы добровольно присягнуть на верность? Все они, вероятно, согласятся с тем, что стихотворный размер – это закон, с которым поэт сверяет свой личный ритм; это своего рода ученические прописи, копируя которые он постепенно вырабатывает свой собственный неповторимый почерк; если поэт отказывается подчиняться этому закону, то индивидуальные особенности его ритма теряют всякий смысл. Поэты, может быть, согласятся со мною и в том, что стиль не должен быть ни слишком искусственным, ни вульгарным. Но как быть с Темой? Кто хоть раз сумел объяснить, почему эта Тема – поэтическая, а эта – нет, если не принимать в расчет такой критерий, как впечатление, производимое ею на читателя?
Обретая утраченные основы поэзии, мы сможем разрешить и тайну Темы: если они до сих пор привлекают и очаровывают нас, значит они подтверждают догадку валлийского поэта Алана Льюиса, высказанную им незадолго до гибели в Бирме в марте 1944 г.: «Единственная тема поэзии – жизнь и смерть… Вопрос в том, что из любимого нами переживет физическую гибель?»[13] Допустим, что для журналиста, балующегося версификацией, существует немало тем, но для поэта, как понимал его призвание Алан Льюис, нет выбора. Элементы этой единственной, бесконечно многообразной Темы можно обнаружить в некоторых древних поэтических мифах – хотя и искаженные в угоду религиозным воззрениям той или иной эпохи, однако неизменно различимые в их общей структуре (я использую слово «миф» в строгом смысле «вербальной иконографии», вне всяких уничижительных коннотаций «нелепых фантазий», которые оно приобрело). Безусловная верность Теме производит на читателя стихов странное впечатление, сродни одновременно восхищению и ужасу, сугубо физические проявления которого заключаются в том, что волосы буквально начинают шевелиться. А. Э. Хаусман[14] предложил простой практический тест, позволяющий выявить истинность поэзии: приподнимаются ли волоски щетины у вас на подбородке, если вы про себя повторяете стихотворение, пока бреетесь? Однако он не объяснил, почему они должны приподниматься.
Древние кельты неукоснительно отличали от простого менестреля поэта, который изначально был также жрецом и судьей и личность которого была неприкосновенна. По-ирландски его называли «филидом» («fili»), «прорицателем», по-валлийски – «дервидом» («derwydd») – «дубовым прорицателем». Это обозначение, возможно, происходит от слова «друид». Даже правители учились у них добродетели. Когда два войска сходились в битве, поэты враждующих сторон вместе удалялись на холм и там со степенной важностью обсуждали ход сражения. В валлийской поэме VI в. «Гододин» («Gododin»)[15] говорится о том, что «доблести мужей брани дают оценку поэты». Противники, которых поэты зачастую останавливали в битве своим внезапным вмешательством, впоследствии с благоговением и радостью принимали их версию сражения, если оно заслуживало увековечения в поэме. И напротив, менестрель был joculator – шут, а не жрец. Он всего лишь подвизался как клиент военной аристократии и не проходил многотрудного профессионального обучения. Он часто превращал свои выступления в некие цирковые номера, представляя героев, подобно комедианту, и выполняя акробатические трюки. В Уэльсе его называли «eirchiad», или просителем, – человеком, не имеющим ремесла, которое давало бы постоянный доход, и зависящим от случайных щедрот военных вождей. Посидоний-стоик[16] упоминает о том, как в Галлии бросили кельтскому менестрелю кошель с золотом, а это происходило еще в I в. до н. э., когда система друидических верований достигла там наивысшего расцвета. Если лесть менестреля казалась его покровителям достаточно угодливой, а песня – достаточно благозвучной и настраивала их отуманенное хмельным медом сознание на благодушный лад, то менестреля щедро вознаграждали золотыми ожерельями и сладкими пирожками; если же нет – на него обрушивался град обглоданных костей. Но пусть кто-нибудь, даже через столетия после того, как жреческие функции ирландского поэта отошли к христианскому священнику, только попробует нанести ему малейшую обиду, и он сложит на оскорбителя сатиру, от которой тот сплошь покроется черными нарывами, а внутренности его растают, как снег, или бросит в лицо обидчику заговоренный пучок травы или соломы, так называемый «клочок безумия», чтобы свести его с ума. Дошедшие до нас образцы стихотворных проклятий, сложенных валлийскими менестрелями, свидетельствуют, что с ними тоже приходилось считаться. С другой стороны, придворным поэтам Уэльса запрещалось писать проклятия и сатиры, и, если их достоинство было оскорблено, они поневоле искали удовлетворения в суде. Согласно своду Законов Х в., касавшихся валлийских «домашних бардов», они могли требовать в качестве возмещения ущерба «девять коров и, сверх того, девять раз по два десятка пенсов деньгами». Число девять указывает на единую в девяти лицах музу, их прежнюю покровительницу.
В Древней Ирландии оллам, или ученый поэт, на пиру сидел рядом с королем и был наделен правом «носить одеяния шести цветов», которого не имел более никто, кроме королевы. Слово «бард», средневековое валлийское обозначение ученого поэта, в Ирландии имело другой смысл и характеризовало «поэта низшего ранга», не взошедшего по «семи ступеням мудрости», которую обретал оллам в процессе трудного двенадцатилетнего обучения. Положение ирландского барда так определяется в дополнении к «Закону о покупках людьми всех сословий всего на свете» («Crith Gabhlach»)[17] VII в.: «В глазах закона бард не обладает ученостью, но лишь острым умом». Однако более поздняя «Книга олламов» (сохранившаяся в составе «Баллимоутской книги»[18] XIV в.) поясняет, что если ученик семь лет постигал поэтическое искусство, то он получал право на, так сказать, «степень бакалавра искусства в области бардовской поэзии без диплома». Это означало, что он запомнил наизусть лишь половину обязательных преданий и стихов, не уразумел сложные правила просодии и стихотворных размеров и не овладел древнегэльским языком. Впрочем, его семилетнее обучение было куда более суровым и сложным, нежели того требовали наставники в поэтических школах Уэльса, где барды соответственно имели более низкий статус. Согласно «Валлийским законам», верховный бард, «пенкерд» («Penkerdd»), считался при дворе лишь сановником десятого ранга, на пирах сидел ошуюю престолонаследника, и ему полагались те же почести, что и главному кузнецу.
Ирландский оллам главным образом стремился найти единственно верное выражение сложной поэтической истины. Он знал историю и мифический смысл каждого слова, которое использовал, и наверняка нисколько не интересовался тем, как оценит обычный человек его творчество. Его занимало только мнение коллег, с которыми он почти всегда обменивался при встрече целой чередой поэтических острот и стихотворных экспромтов. Однако не станем утверждать, будто он всегда хранил верность той самой единственной Теме. Полученное им чрезвычайно широкое образование, включавшее в себя историю, музыку, право, научные и гадательные знания, искушало его, поощряя стихотворные опусы во всех перечисленных областях. Поэтому часто он более почитал Огму, бога красноречия, нежели Бригиту, триединую музу. Нельзя не отметить и следующий парадокс: в то время как средневековый валлийский придворный поэт, вызывавший восхищение, превратился в клиента правителя, к коему обращал он написанные в соответствии с жесткими правилами подобострастные оды, и почти совершенно забыл единственную Тему, презираемый и не имевший постоянного дохода менестрель, казалось бы только потешавший слушателей, сохранил куда большую поэтическую честность и чистоту, несмотря на техническое несовершенство своего стиха.
Англосаксы не имели ученых поэтов, личность которых была бы неприкосновенна, и знали только менестрелей. Английская поэтическая традиция сформировалась благодаря заимствованиям из вторых рук: из нормандско-французских рыцарских романов, из древних британских, галльских и ирландских источников. Этим объясняется отсутствие в сельской Англии инстинктивного благоговения перед поэтическим призванием, испытываемого даже в отдаленнейших уголках Уэльса, Ирландии и Горной Шотландии. Английские поэты чувствуют необходимость просить извинения за свое поприще везде, кроме литературных кругов, а в бюро записи актов гражданского состояния или будучи вызваны в суд в качестве свидетеля предпочитают указывать свой род занятий как «чиновник», «журналист», «учитель», «романист» и так далее, только не «поэт». Даже звание поэта-лауреата было учреждено в Англии лишь в царствование Карла I. (Джона Скелтона наградили в университете лавровым венком за блестящую речь на латыни, а вовсе не потому, что ему покровительствовал Генрих VIII.) Звание поэта-лауреата никак не позволяет влиять на развитие национальной поэзии и не влечет за собой никаких обязательств хранить ее незапятнанной и незамутненной, да и присуждается оно, без всякого конкурса, первым лордом казначейства, а не каким-то научным обществом. Тем не менее многие английские поэты оставили нам образцы исключительного поэтического мастерства, и с XII в. не было ни одного поколения, которое, пусть с оговорками, не хранило бы верность Теме. Дело в том, что хотя англосаксы и лишили власти древнюю бриттскую аристократию, а с нею и поэтов, они не уничтожили крестьянство, и потому преемственность древней бриттской системы праздников не была прервана, даже когда англосаксы приняли христианство. Основой социальной жизни в Англии была не промышленность, а сельское хозяйство, содержание скота на пастбище, охота, и Тема стала скрыто одухотворять народные обряды по случаю праздников, которые отныне именовались Сретением, Благовещением, Майским днем, Ивановым днем, праздником урожая первого августа, Михайловым днем, Днем Всех Святых и Рождеством. Кроме того, ей не давали погибнуть отвергавшие христианство ведьмы, которые на своих тайных шабашах поклонялись богине. Таким образом, англичане, никогда не испытывавшие уважения к поэту, всегда осознавали важность единственной и великой Темы.
Вкратце, Тема представляет собой древнюю, в тринадцати главах с эпилогом историю рождения, жизни, смерти и воскресения бога наступающего года. Центральные главы посвящены его гибели в поединке с богом убывающего года за любовь своенравной и всемогущей триединой богини, их матери, их невесты и плакальщицы, провожающей их в мир иной. Поэт отождествляет себя с богом наступающего года, а свою музу – с богиней; его соперник – его родной брат, его второе «я», его рок. Любая истинная поэзия, выдержавшая практический тест Хаусмана, воспевает тот или иной эпизод, ту или иную сцену этой древней истории, а три ее главных персонажа стали настолько неотъемлемой частью духовного наследия нашего народа, что постоянно властно напоминают о себе в поэзии и даже, в моменты эмоционального стресса, возвращаются в наших снах, параноидальных видениях и галлюцинациях. Рок, или соперник, часто появляется в кошмарах в облике высокого, стройного, смуглого инкуба, или «князя, господствующего в воздухе»[19], который силится утащить сновидца через окно, а когда тот оглядывается, то видит свое тело, неподвижно замершее на постели; впрочем, соперник способен принимать облик и других существ – злокозненных, дьявольских или змееподобных.
Богиня – пленительная, стройная женщина; у нее нос с горбинкой, мертвенно-бледное лицо, алые, словно ягоды рябины, уста, необычайной голубизны глаза и длинные белокурые волосы. Она может внезапно превращаться в свинью, кобылу, собаку, лису, ослицу, ласку, змею, сову, волчицу, тигрицу, русалку или отвратительную ведьму. Ее имена и эпитеты неисчислимы. В историях о привидениях она обычно предстает в облике белой дамы, а в древних религиях, от Британских островов до Кавказа, почитается как Белая богиня. Не могу вспомнить ни одного настоящего поэта, от Гомера до наших дней, который бы по своей собственной воле не отдал ей дань. Можно предположить, что поэтическое ви́дение проходит некую проверку на прочность, когда поэт пытается максимально точно изобразить Белую богиню и остров, над коим она царит. Когда творишь или читаешь истинную поэзию, волосы шевелятся, глаза наполняются слезами, в горле чувствуется ком, кожа покрывается мурашками, вдоль спины пробегает дрожь, и происходит это потому, что истинная поэзия не может обойтись без заклинания Белой богини, или музы, или матери всего сущего, древней властительницы наслаждения и ужаса – паучихи или пчелиной матки, королевы улья, объятия которых несут смерть. Хаусман предложил второй, вспомогательный, тест на истинность поэзии: вызывает ли она то воздействие, о котором писал Китс: «Все, что напоминает мне о ней, пронзает меня, словно копьем». Это еще одно уместное определение Темы. Китс, чувствуя дыхание смерти, писал о своей музе, Фанни Брон, а копье, «взалкавшее крови», – традиционное оружие темного палача, свергающего героя с престола.
Иногда мы ощущаем, как зашевелились волосы при чтении какого-нибудь фрагмента стихотворения, где нет ни действия, ни персонажей, если о ее незримом присутствии достаточно недвусмысленно возвещают стихии: например, когда ухает сова, луна, словно челн, стремительно и плавно несется сквозь облака, деревья медленно колышутся над низвергающимся со скал водопадом, и откуда-то издалека доносится лай собак; или когда колокольный звон разносит в морозном воздухе весть о рождении нового года.
Несмотря на глубокое чувственное очарование, которое мы испытываем от чтения классической поэзии, она не заставляет волосы шевелиться и сердце сжиматься, разве что в тех случаях, когда ей не удается сохранить благопристойную сдержанность, а причина этого кроется в разном отношении классического поэта и истинного поэта к Белой богине. Это не означает, что я отождествляю истинного поэта с романтическим. Прилагательное «романтический» было удобной характеристикой, пока оно означало мистическое благоговение перед женщиной, некогда забытое и вновь принесенное в Западную Европу авторами стихотворных романов, однако впоследствии оказалось запятнано, так как его стали использовать без разбора. Типичный романтический поэт XIX в. был физически слаб, страдал неизлечимыми недугами, наркоманией или меланхолией, отличался чрезвычайной неуравновешенностью и может считаться истинным поэтом, лишь поскольку, как подобает фаталисту, признавал богиню повелительницей собственной судьбы. Классический же поэт, сколь бы талантлив и усерден он ни был, не пройдет этого испытания, ибо видит себя повелителем богини, – а если и ощущает над собою ее власть, то только как недостойную зависимость содержателя от кокетливой и корыстной любовницы. Иногда он и вправду берет на себя роль ее сводника и пытается на потребу публике расцветить свои строки, обильно уснастив их красотами, позаимствованными из истинных стихов. В классической арабской поэзии существует такой прием, как «воспламенение». Он заключается в том, что поэт создает красочную атмосферу, живописуя в прологе рощи, ручьи и трели соловья, чтобы внезапно, пока очарование не рассеялось, перейти к делу – например, к восхвалению мужества, благочестия и великодушия своего покровителя или к мудрым размышлениям о быстротечности и тщете человеческой жизни. В классической английской поэзии это искусственное «воспламенение» может длиться от первой до последней строки.
В последующих главах мы заново откроем ряд более или менее древних священных заклинаний, которые в сжатом виде воплощают несколько последовательных версий Темы. Готов побиться об заклад, что литературные критики, миссия которых – судить о литературе, как свойственно шуту-менестрелю, то есть в зависимости от того, насколько она способна развлечь публику, будут потешаться над моими измышлениями, которые по-английски принято именовать «гнездом кобылы»[20]. А еще бьюсь об заклад, что ученые воздержатся от любых комментариев по поводу моего труда. Но, с другой стороны, что такое ученый? Человек, которому запрещено мыслить самостоятельно под угрозой изгнания из академического учреждения, членом которого он состоит.
Кстати, а что же такое «гнездо кобылы»? Ответ, хотя и несколько туманный, дает Шекспир, впрочем заменяя Одина, изначального героя баллады, святым Витольдом:
Swithold footed thrice the wold.
He met the Night-Mare and her nine-fold,
Bid her alight and her troth plight,
And aroynt thee, witch, aroynt thee![21]
Более полное описание подвига Одина содержится в «Заклинании против ночной кобылы», сочиненном в Северной Англии, по-видимому, в XIV в.:
Tha mon o’micht, he rade o’nicht
Wi’ neider swerd ne ferd ne licht.
He socht tha Mare, he fond tha Mare,
He bond tha Mare wi’ her ain hare,
Ond gared her swar by midder-micht
She wolde nae mair rid o’nicht
Whar aince he rade, thot mon o’micht[22].
Ночная кобыла – одна из жестоких ипостасей Белой богини. Ее гнезда, иногда являющиеся нам в кошмарах, таятся в расщелинах утесов и на ветвях гигантских дуплистых тисов, они свиты из тщательно подобранных веточек, выложены белым конским волосом и перьями птиц, которым молва приписывает пророческий дар, в них копится сор – челюсти и внутренности поэтов. Пророк Иов сказал о ней: «[Она] живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных… Птенцы [ее] пьют кровь»[23].