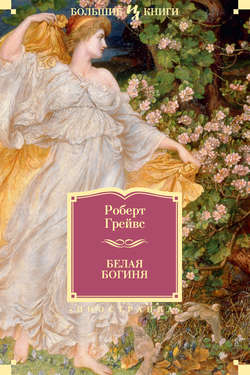Читать книгу Белая Богиня - Роберт Грейвс - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава вторая
Битва деревьев
ОглавлениеПо-видимому, валлийские менестрели, подобно ирландским поэтам, декламировали свои повествования о героях, рыцарях и приключениях прозой, изредка переходя к стиху под аккомпанемент арфы ради пущего мелодраматического эффекта. Некоторые из этих повествований дошли до нас в неприкосновенном виде, в том числе и со стихотворными дополнениями. В других стихи не сохранились, а иногда от них остались только стихи, как это случилось с произведениями Лливарха Хена (Лливарха Старого)[24]. Самое знаменитое собрание валлийских повестей – это цикл «Мабиногион», обыкновенно считающийся «книгой для юношества», то есть книгой, которую обязан был знать любой ученик менестреля. Сборник «Мабиногион» включен в состав «Красной книги из Хергеста» XIII в. Почти все стихотворные дополнения в нем утрачены. Повести собрания «Мабиногион» входят в стандартный репертуар менестреля, а язык и сюжетные ходы некоторых из них явно были модернизированы в соответствии с новыми вкусами в литературе и морали.
Кроме того, в «Красной книге из Хергеста» содержатся пятьдесят восемь разрозненных стихотворений под общим названием «Книга Талиесина», в том числе и стихотворные дополнения к прозаической «Повести о Талиесине», не включенной в «Мабиногион». Впрочем, первая часть повести сохранилась в рукописи конца XVI в., именуемой «рукописью из Пениардда» и впервые напечатанной в начале XIX в. в составе сборника валлийских древностей «Myvyrian Archaiology»[25] вместе с большинством тех же стихотворных дополнений, хотя и с отклонениями от принятого текста. Леди Шарлотта Гест[26] перевела этот фрагмент, дополнив его материалом двух других манускриптов, и включила в свое знаменитое издание цикла «Мабиногион» (1848). К сожалению, один из этих манускриптов был заимствован из библиотеки Йоло Моргануга[27], антиквара XVIII в., заслужившего известность «исправлениями и дополнениями» старинных валлийских текстов, поэтому ее версию нельзя считать бесспорной, хотя данную рукопись до сих пор не признали поддельной.
Краткое содержание повести таково. Тегид Фоель, благородный муж родом из Пенлинна, женат на Каридвен, или Керридвен, и имеет двоих детей – Крейрви, самую прекрасную девочку, и Авагду, самого безобразного мальчика на свете. Они живут на острове посреди озера Тегид. Чтобы заставить окружающих забыть об уродстве Авагдду, Керридвен решает наделить его необычайной мудростью. Для этого по рецепту мага и чернокнижника Вергилия Толедского (героя романа XII в.) она сварила котел напитка, дарующего вдохновение и мудрость, который должен был кипеть на медленном огне ровно год и один день. Весна сменяла зиму, лето – весну, осень – лето, а Керридвен все добавляла и добавляла в зелье волшебные травы, собранные под благодетельным влиянием тех или иных планет. Отлучившись за травами, Керридвен велела помешивать зелье в котле маленькому Гвиону, сыну Гуранга из прихода Лланвайр, что в Кэйриньоне. Год близился к концу, и вдруг из котла выплеснулись три капли кипящего зелья и упали маленькому Гвиону на палец. Он пососал обожженный палец, тотчас понял смысл всего сущего в прошлом, настоящем и будущем и уразумел, что должен остерегаться коварства Керридвен, вознамерившейся убить его, как только он завершит порученное. Он бежал от нее, а она кинулась за ним в погоню в облике отвратительной, громко завывающей ведьмы. Вкусив волшебного зелья, он превратился в зайца; тогда она обернулась борзой. Он бросился в реку и принял обличье рыбы, она обернулась выдрой. Он вознесся в воздух малой птицей, она обернулась ястребом. Он превратился в зернышко провеянной пшеницы на полу амбара; она обернулась черной курицей, разгребла пшеницу лапами, нашла его и проглотила. Приняв свой истинный облик, она обнаружила, что носит Гвиона под сердцем, а спустя девять месяцев разрешилась им от бремени. Ей не хватило духу убить его, ибо он был прекрасен, и потому она положила его в кожаную суму, затянула ремни и бросила младенца в море за два дня до майского праздника. Волны унесли его на плотину, защищавшую королевство Гвиддно Гаранхира[28] от вод залива Кардиган, между городами Абердифи и Абериствис, где его спас принц Эльфин, сын Гвиддно и племянник Мэлгуна Гвинеддского (властителя Северного Уэльса), который пришел на плотину ловить сетью рыбу. Эльфин, хотя и остался без улова, счел себя вполне вознагражденным за труды и дал Гвиону новое имя – Талиесин, означающее либо «драгоценность», либо «прекрасное чело» и дающее автору повод для многочисленных каламбуров.
Когда Мэлгун, король Гвинедда, пленил Эльфина и заточил его в столице своих владений Диганви (возле Лландидно), маленький Талиесин отправился его выручать и, проявив сверхъестественную мудрость и посрамив всех придворных бардов Мэлгуна, числом двадцать четыре, – подобострастных бардов Мэлгуна упоминает Ненний[29], британский историк VIII в., – и их предводителя, верховного барда Хейнина, добился его освобождения. Сначала он наложил на бардов магическое заклятие, отчего те принялись оттопыривать пальцами губы и бубнить: «Блерум-блерум», словно малые дети, а потом прочитал вслух длинную поэму-загадку, которую они не смогли разгадать и которой будет посвящена глава пятая. Поскольку в «рукописи из Пениардда» изложена неполная версия повести, не исключено, что в изначальном варианте присутствовала и разгадка, подобно тому как она приводится в историях о Румпельштильцхене, Том-Тит-Тоте[30], Эдипе и Самсоне. Впрочем, судя по другим стихотворным дополнениям к прозаическим валлийским повестям, Талиесин продолжал издеваться над невежеством и тупостью Хейнина и прочих бардов и так и не открыл им отгадку.
В изложении леди Шарлотты Гест история достигает своего апогея, когда маленький Талиесин загадывает бардам другую загадку, начинающуюся словами:
Отгадайте, что это:
Могущественное создание, жившее до Потопа,
Без плоти, без костей,
Без жил, без крови,
Без головы, без ног…
В поле, в лесу…
Без кистей, без ступней.
Оно столь широко,
Что может окутать всю землю,
Никто не произвел его на свет,
Никто не видал его…
Талиесин называет отгадку: «Ветер», и почти одновременно в зал врывается яростный порыв ветра, после чего испуганный король приказывает привести Эльфина из темницы, а Талиесин магическими заклинаниями освобождает его от оков. В более ранней версии буря, видимо, поднималась, едва только взмахивал плащом его сотоварищ Авагдду, или Морвран; точно так же взмахом плаща вызывал бурю его ирландский двойник Марван в раннесредневековых «Трудах Великой академии бардов»[31], имеющих большое сходство с «Повестью о Талиесине». «Ветер проник за пазуху каждому барду и поднял их на ноги». В сжатом виде эта загадка приведена в сочинении «Flores» Беды Достопочтенного[32], автора, удостоившегося похвалы в одной из поэм «Книги Талиесина»:
«Dic mihi quae est illa res quae caelum, totamque terram replevit, silvas et sirculos confringit… omnia-que fundamenta concutit, sed nec oculis videri aut [sic] manibus tangi potest.
[Ответ] Ventus»[33].
Здесь невозможно ошибиться. Однако, поскольку этому изречению Талиесина не предпослан формальный императив «Dychymig Dychymig» (загадай загадку) или «Dechymec pwy yw» («Отгадай, что это»)[34], то комментаторы просто отказываются интерпретировать его как загадку. Некоторые полагают, что это таинственный набор бессмысленных словес, некий средневековый опыт в жанре нонсенса, предвосхищающий Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла и призванный насмешить читателя. Другие придерживаются мнения, что ему все-таки свойствен какой-то мистический смысл, связанный с друидическим учением о переселении душ, но смиренно признают, что им его не разгадать.
И тут я должен попросить извинения за свое безрассудство, ведь я избрал тему, заниматься которой, возможно, не имею права. Я не валлиец, в лучшем случае я могу считать себя почетным валлийцем, так как ел лук-порей в День святого Давида, когда служил в полку Королевских валлийских стрелков[35]. Хотя я с перерывами прожил в Уэльсе несколько лет, я не владею даже современным валлийским, и я не историк-медиевист. Однако мое призвание – поэзия, и я согласен с валлийскими менестрелями, что первый дар, который судьба приносит поэту, – знание и постижение мифов. Однажды, когда я мучительно старался понять, в чем же заключается тайна древневаллийского мифа «Битва деревьев» («Câd Goddeu», «Кад Коддай»), в котором Араун, владыка Аннуна («Неизмеримой Бездны»), выступил против двух сыновей богини Дон, Гвидиона и Аматона, я испытал озарение, подобное выпавшему на долю Гвиона из Лланвайра. Из котла вылетели несколько капель волшебного зелья, дарующего вдохновение, и я внезапно осознал, что если снова возьмусь расшифровывать загадку Гвиона, которую не перечитывал со школьной скамьи, то увижу в ней какой-то новый смысл.
Битва деревьев «началась по вине чибиса, оленя и пса из Аннуна». В древневаллийских «Триадах», собрании нравоучительных или традиционных афористических сентенций, каждая из которых основана на сходстве трех понятий, битва деревьев названа «одной из трех потешных битв Британии». А «Повесть о Талиесине» включает в себя длинную поэму, или несколько поэм, объединенных под названием «Битва деревьев» («Câd Goddeu»), которые кажутся не менее бессмысленными, чем «Поэма о Талиесине», ибо их фрагменты сознательно перетасовали. Привожу поэму в переводе Д. В. Нэша, выполненном в середине Викторианской эпохи и хотя, насколько мне известно, не заслуживающем доверия, но единственно доступном мне в настоящее время. Оригинал написан короткими рифмующимися строками, причем одна рифма повторяется на протяжении десяти – пятнадцати строк. Из них в поэму, давшую название всей «сборной конструкции», непосредственно входит менее половины, и их необходимо скрупулезно вычленить из пестрого целого, чтобы объяснить их связь с загадкой Гвиона. Запаситесь терпением!
Câd Goddeu (Битва деревьев)
Каких только обличий я ни принимал,
Прежде чем обрел подходящий облик.
Я был узким лезвием меча.
(Я поверю в это, когда узрю его пред собою.)
5 Я был каплей в воздушной стихии.
Я был сияющей звездой.
Я был словом, написанным в книге.
Изначально я был книгой.
Я был светом лампады.
10 Полтора года.
Я был мостом
Через трижды двадцать рек.
Я взмывал в поднебесье орлом.
Я был ладьей в море.
15 Я был полководцем в битве.
Я был завязкой на свивальнике младенца.
Я был мечом в руке.
Я был щитом в сражении.
Я был струной арфы,
20 На целый год заключенной колдовством
в пену на воде.
Я был кочергой в огне.
Я был деревом в лесной чаще.
Нет ничего, чем бы я ни побывал.
25 Я сражался, хотя и мал был,
В битве, именуемой Годдай Бриг,
На глазах властителя Британии,
Повелевающего множеством кораблей.
Жалкие барды притворяются,
30 Они притворяются ужасным чудовищем,
Стоглавым,
Одна кровопролитная битва
У корней языка,
А другая —
35 В глубине мозга.
Жаба, лядвеи коей
Усеяны сотней когтей,
Пятнистый змей с гребнем на спине,
Наказующий во плоти
40 Сотни душ за грехи.
Я был в Каер Февэннедд,
Туда устремились травы и деревья.
Их видели странники,
А воины дивились
45 Возобновлению боев,
Подобных тому, к которому подстрекал Гвидион.
К небесам,
И к Христу, Всемогущему Господу,
Возносят они мольбы
50 О спасении.
Если бы Господь ответил,
Посредством заклинаний и магического искусства,
Примите облик главных деревьев,
Постройтесь для битвы
55 И удержите от сражения
Неопытных воинов.
Когда на деревья наложили заклятье,
У них появилась надежда
Отвратить от себя коварный замысел,
60 Вырваться из окружения огней…
Лучше приходится тем трем, кто в полном согласии
Веселится в тесном кругу,
Пока один повествует
О Всемирном потопе,
65 И распятии Христа,
И близящемся дне Страшного суда.
Ольховые деревья в первом ряду
Бесстрашно бросились на врага.
Ива и рябина
70 Медлили стать в строй.
Слива – дерево,
Которое невзлюбили люди.
Такова же и мушмула,
Изнемогающая от тяжкого труда.
75 Бобы, скрывающие под своей сенью
Сонмы призраков.
Малиною
Не насытиться.
Укрыты от бед надежно
80 Бирючина и жимолость,
А в свое время и плющ.
Храбро бьется утесник.
Вишней пренебрегли.
Береза, хотя и великолепна,
85 Поздно явилась на поле брани;
Однако не из трусости,
А из-за богатырского роста.
Облик… —
Поистине дикарский и варварский.
90 Сосна в суде,
Несравненная воительница,
Восхваляемая мною
В присутствии королей,
Вязы – ее подданные.
95 Она ни на фут не отступает,
Но бросается в гущу сражения,
Там наносит удар и последние ряды сокрушает.
Орешник – судья,
Плоды его – твое приданое.
100 Бирючина благословенна.
Несокрушимые полководцы —
… и шелковица.
Благоденствие – удел бука.
Темно-зеленый остролист
105 Был очень храбр:
Защищался шипами и справа и слева,
Ранил руки.
Тополям-долготерпеливцам
В битве нанесли ужасные увечья.
110 Ограбленный папоротник;
Ракитник и его потомство:
Дрок не знал приличий,
Пока его не усмирили.
Вереск подавал утешение
115 Страждущим.
Черешня преследовала.
Быстроногий дуб,
От его поступи дрожали небо и земля,
«Страж врат, заступник от врагов», —
120 Именуют его повсюду.
Сноп дикой гвоздики
Был предан огню.
Других отринули
По причине ужасных ран,
125 Нанесенных им
На поле брани.
Преизрядно гневался…
Жесток угрюмый ясень.
Робок каштан,
130 Отвергающий блаженство.
И настанет кромешная тьма,
И содрогнутся горы,
И разверзнется очищающее огненное горнило,
Но сначала восстанет из пучины неизмеримая волна,
135 А когда раздастся крик —
Оденутся новой листвой кроны буков,
Преображаясь, вновь оживая;
Спутаны ветви в верхушке дуба.
Из песни о Мэлдерве[36]
140 Улыбалась в тени утеса
Весьма бесстрастная груша.
Не смертной женою
От смертного мужа
Рожден я;
145 Из девяти различных даров,
Из плода плодов,
Из плодов Господь сотворил меня,
Из цветов горной примулы,
Из почек деревьев и кустарников,
150 Из земли земной стихии.
Создавая меня из цветов крапивы,
Из воды девятого вала,
Мат вызвал меня волшебством,
И тогда я
155 Стал бессмертным.
Волшебством создал меня Гвидион,
Великий маг бриттов,
Ирис, Ирун,
Ирон, Медрон[37],
160 Постигнув мириады тайн,
Я стал равен ученостью Мату…
Я знаю, когда кесарь был
Наполовину сожжен.
Я владею исчислением звезд,
165 Живших до того, (как была создана) земля,
Из которой я появился на свет,
Я знаю, сколько существует миров.
В обычае всякого искусного барда —
Восхвалять свою родную землю.
170 Я играл в Ллухауре,
Я почивал на королевском пурпуре,
Не я ли делил уютное ложе
с Диланом Эйл Мором[38],
Меж колен
175 Принца,
На двух тупых копьях?
Когда с небес низверглись
В пучину потоки,
Обрушились яростно.
180 (Мне ведомо) четырежды по двадцать песен,
Дарующих им наслаждение.
Нет никого, ни юнца, ни старца,
Ни одного певца,
Никого, ни одного барда, кроме меня,
185 Кто знал бы все девятьсот,
Что известны мне и повествуют о мече, испившем крови.
Честь ведет меня.
Полезная ученость – дар Господа.
(Мне ведомо) убийство вепря,
190 Его появление, его исчезновение,
Языки, что ему известны.
(Мне ведом) свет, коему имя – Великолепие,
И число всевластных огней,
Что испускают пламенные лучи
195 Высоко над пучиной.
Я был пятнистой змеей на холме;
Я был гадюкой в озере;
Я побывал и злосчастной звездой.
Я был мельничным жерновом (?).
200 Мой плащ ал.
Я не изрекаю злых пророчеств.
Четырежды двадцать облачков дыма всякому,
Кто возжелает унести их:
И миллион ангелов
205 На острие моего ножа.
Прекрасна соловая лошадь,
Но в тысячу раз лучше
Моя чалая,
Быстрая, словно чайка,
210 Которая не может миновать меня
Меж морем и берегом.
Не превосхожу ли я всех на кровавом поле?
Доля моя в добыче стократна.
Венец мой – из красных каменьев,
215 Из золота обод моего щита.
Не было и не известно никого,
Кто бы сравнялся со мною,
Кроме Горонви
Из долин Эдриви.
220 Белоснежны и долги мои персты,
Давно прошло время, когда я был пастухом.
Я странствовал по всему миру,
Прежде чем обрел ученость.
Я путешествовал, я обошел всю землю,
225 Я засыпал на множестве островов,
Я обитал во множестве городов.
Ученые друиды,
Вы пророчествуете об Артуре?
Или вы превозносите меня,
230 И распятие Христа,
И близящийся день Страшного суда,
А один повествует
О Всемирном потопе?
Золотое ожерелье, оправленное в золото,
235 Даровано мне;
И я наслаждаюсь им, благодаря
Утомительному труду златокузнеца.
Проявив немного терпения, можно отделить большинство строк поэмы о битве деревьев от составляющих четыре или пять других стихотворений, вместе с которыми они были ошибочно переписаны. Ниже я в виде эксперимента предлагаю свою реконструкцию сравнительно простых для понимания фрагментов поэмы, оставив пропуски на месте более сложных. Почему я выбрал такой, а не иной вариант, станет ясно в свое время, когда я начну обсуждать смысл аллюзий, содержащихся в поэме. Я использовал балладный размер как наиболее подходящий английский эквивалент оригинала:
Битва деревьев
Из замка Февэннедд (строки 41–42)
Я взирал, онемев,
На дивное войско
Трав и дерев.
Сие чудо исторгло (строки 43–46)
У ратников стон:
«Уж не начал ли снова
Войну Гвидион?»
Разгорелись две битвы: (строки 32–35)
У корней языка
И глубоко в мозгу.
Чья победа близка?
Ольху – нет ей равных – (строки 67–70)
Не устрашить,
Ива, рябина
Медлят в битву вступить.
Остролист не отступит (строки 104–107)
В бою ни на шаг;
Шипами его
Поражен грозный враг.
Дуб только шагнет – (строки 117–120)
И дрожит небосвод.
Повсюду зовется
Он «стражем ворот».
И плющ, и утесник – (строки 82, 81, 98, 57)
Крепкий воинам щит.
Орешник-судья
Судьбы брани вершит.
Необузданна [пихта?], (строки 88, 89, 128, 95, 96)
Ясень в битве жесток.
Один остановит
Вражьей рати поток.
Как знати пристало, (строки 84–87)
Береза на бой
Явилась последней,
Не спеша стала в строй.
У вереска тополь (строки 114, 115, 108, 109)
Утешенья просил,
От ран изнемог он,
Лишившийся сил.
Тополя-братья (строки 123–126)
Как один сметены
Сталью холодной
И вихрем войны.
Средь вязов-дружинников (строки 127, 94, 92, 93)
На врага виноград
Бросается яро,
Увенчан стократ.
Робеют, в укрытье (строки 79, 80, 56, 90)
Таясь дотемна,
Жимолость, бирючина
И с ними сосна.
Маленький Гвион пояснил, что описывает не изначальную битву деревьев, но некое ее продолжение:
«Уж не начал ли снова
Войну Гвидион?»
Комментаторы, приведенные в замешательство этими внешне бессвязными стихами, обыкновенно довольствуются следующим объяснением: кельтская традиция наделяла друидов магической способностью превращать деревья в воинов и отправлять их на битву. Однако, как впервые заметил в своих «Кельтских исследованиях» (1809) преподобный Эдвард Дэвис, блестящий, но безнадежно запутавшийся валлийский ученый начала XIX в., битва, изображенная Гвионом, – это не потешный бой, да и вообще не реальное сражение, а некая интеллектуальная схватка, происходящая в сознании и на устах ее хорошо образованных участников. Дэвис также подчеркнул, что во всех кельтских языках одним и тем же словом обозначаются деревья и буквы, что друидические школы располагались в лесах и рощах, что значительная часть друидических мистерий предполагала манипуляции с прутиками различных деревьев и кустарников и что древнейший ирландский алфавит Бет-Луш-Нион («Береза-Рябина-Ясень») назван по трем наименованиям деревьев, начальные буквы которых образуют последовательность алфавита. Дэвис двигался в правильном направлении, и хотя вскоре он начал заблуждаться, поскольку не осознал компилятивный характер поэм и перевел их, абсолютно исказив смысл в соответствии с собственными представлениями о здравом и логичном, его наблюдения помогут нам реконструировать текст фрагмента, описывающего спешащие на битву деревья и травы:
Отречься от счастья (строки 130 и 53)
Судьба им велит,
Превратившись в магический
Алфавит.
В следующих строках, по-видимому, содержится вступление к описанию битвы, какой ее увидел Гвион:
Буки оделись (строки 136–137)
Зеленой листвой,
Забыв зимний холод
И плен снеговой.
Если бук торжествует, (строки 103, 52, 138, 58)
Хоть в плену колдовства
Дуб, сильный воин, —
То надежда жива!
Если это хоть что-то означает, то только то, что в Уэльсе возрождаются литература и ученость. Слово «beech» («бук») традиционно использовалось в качестве синонима слова «литература». Например, английское слово «book» («книга») происходит от готского слова, означающего «буквы», и, как и немецкое существительное «Buchstabe» («буква»), этимологически родственно слову «beech» («бук»), поскольку таблички для письма изготавливались из букового дерева. Как писал Венанций Фортунат[39], епископ и поэт VI в.: «Barbara fraxineis pingatur runa tabellis» («Да будут варварские руны нанесены на буковые таблички»). «Дуб в плену колдовства» – это, видимо, указание на древние тайны поэзии: как я уже упоминал, слово «derwydd», или «друид», или «поэт», первоначально значило «дубовый прорицатель». В одной древней корнуэльской поэме описывается, как друид Мерддин, или Мерлин, ранним утром отправился вместе со своим черным псом на поиски «glain»[40], или волшебного змеиного яйца (возможно, окаменевшего морского ежа наподобие тех, что находят в захоронениях железного века), кресс-салата и северницы (herbe d’or) и срезал самую высокую ветку в кроне дуба. Гвион, в строке 225 обращающийся к своим собратьям-поэтам «друиды», говорит здесь: «Древние тайны поэзии едва не погубила длительная враждебность Церкви, однако теперь, когда литература процветает вне монастырских стен, у них появилась надежда».
Он упоминает других участников битвы:
Несокрушимые полководцы —
[?] и шелковица…
Вишней пренебрегли…
Черешня преследовала…
Весьма бесстрастная груша…
Малиною
не насытиться…
Слива – дерево,
Которое невзлюбили люди…
Такова же и мушмула…
С точки зрения поэзии все эти характеристики кажутся бессмысленными. Малиной вполне можно насытиться; сливу любят; древесина груши горит столь ярко, что на Балканах ее часто используют вместо кизила для разведения сигнальных огней; из шелковицы не изготавливают никакого оружия; вишней никогда не пренебрегали, а во времена Гвиона она ассоциировалась с Рождеством в широко распространенной версии Евангелия Псевдо-Матфея. Черешня никого не «преследовала». Совершенно очевидно, что эти восемь наименований садовых фруктовых деревьев и еще одно, утраченное, вместо которого я подставил «пихта», были коварно изъяты кем-то из следующего загадочного фрагмента поэмы:
Из девяти различных даров,
Из плода плодов,
Из плодов Господь сотворил меня… —
и заменены названиями девяти лесных деревьев, которые действительно вышли на поле брани.
Трудно сказать, является ли история «плодового человека» частью «Битвы деревьев» или это некая речь персонажа, поэтическая попытка представиться, подобная четырем другим, в жестоко перепутанном виде вошедшим в состав «Битвы деревьев»: их явно произносят Талиесин, богиня цветов Блодуэд, мифический предок кимров Ху Гадарн[41] и бог Аполлон. В целом я склонен считать, что история «плодового человека» на самом деле неотъемлемая часть «Битвы деревьев»:
Девять даров (строки 145–147)
Ниспослал мне Господь:
Девяти деревьев
Я кровь и плоть —
Сливы, айвы, (строки 71, 73, 77, 83,
Шелковицы, рябины, 102, 116, 141)
Черешни, черники,
Вишни, груши, малины.
Внимательно изучив деревья, составляющие ирландский алфавит Бет-Луш-Нион, с которым, очевидно, был хорошо знаком автор поэмы, нетрудно восстановить исходные названия девяти деревьев, замененных фруктовыми. Разумеется, трудно «насытиться» невкусными терновыми ягодами. Это бузина, печально известная тем, что плохо горит, зато с давних пор славящаяся в народной медицине как средство от лихорадки и различных ожогов, «весьма бесстрастна». Это приносящий несчастье боярышник и «подобный ему» терновник – «деревья, которые невзлюбили люди», и вместе с тисом, деревом лучников, они составляют триаду «несокрушимых полководцев». По аналогии с дубом, из древесины которого вырубали наносящие сокрушительные удары палицы, с тисом, из древесины которого вытачивали смертоносные луки и рукояти кинжалов, с ясенем, из древесины которого вырезали разящие без промаха копья, и с тополем, древесина которого шла на изготовление крепких щитов, я предположил, что вместо «преследующей» черешни в оригинале был упомянут «беспокойный тростник», из стеблей которого выходили древки стремительных стрел. Ирландские поэты считали тростник деревом.
«Я», которым пренебрегли, ибо он мал, – это сам Гвион, над его детским обликом насмехались Хейнин и его сотоварищи-барды. Впрочем, возможно, он произносит эту речь от имени еще одного дерева – омелы, которая в древнескандинавском мифе убивает солярного бога Бальдра за то, что ею пренебрегли, сочтя ее слишком юной, чтобы поклясться не причинять ему вреда. Хотя в древнеирландской религии нет никаких свидетельств существования культа омелы и омела не включена в древесный алфавит Бет-Луш-Нион, для друидов Галлии, которые заимствовали принципы своего учения из Британии, омела была важнейшим деревом, а следы омелы обнаружены вместе с дубовыми ветвями в гробе из выдолбленного дерева в погребении бронзового века в Гристорпе, возле Скарборо, в графстве Йоркшир. Следовательно, Гвион мог опираться скорее на британскую традицию первоначальной «Битвы деревьев», нежели на познания, почерпнутые в среде ирландских ученых.
В поэме упоминаются еще три дерева:
Ракитник и его потомство…
Дрок не знал приличий,
Пока его не усмирили…
Робок каштан…
Дрок усмиряют разжигаемыми весной кострами, чтобы его молодые побеги могли щипать овцы.
Робкий каштан не входит в ту же категорию деревьев-букв, что и участники битвы; не исключено, что строка, в которой он упомянут, есть часть другой поэмы, включенной в «Битву деревьев» и описывающей, как прелестная Блодуэд («обликом подобная цветку») была сотворена из цветов и бутонов магом Гвидионом. Эту поэму нетрудно выделить из состава «Битвы деревьев», хотя одна или две строки в ней, по-видимому, утрачены. Их можно восстановить, используя параллельные строки:
Из девяти различных даров, (строки 145–147)
Из плода плодов,
Из плодов Господь сотворил меня.
«Плодового мужчину» создают из девяти различных фруктов и ягод, а «цветочную женщину» соответственно из девяти различных цветов. Пять из них названы в «Битве деревьев». Еще три – ракитник, таволга и цветок дуба – упомянуты в повествовании о тех же событиях в сказании о Мате, сыне Матонви. Девятым, вероятно, был боярышник, поскольку Блодуэд – это другое имя Олуэн, королевы мая, согласно повести о Кулухе и Олуэн, дочери Боярышника, или Майского Дерева. Впрочем, не исключено, что это был клевер с белыми цветами.
Поэма о Блодуэд
Не смертной женою строка 142
От смертного мужа строка 144
Рождена я, но магом строка 156
Гвидионом премудрым строка 157
Из цветов, чудных, ярких, строка 143
Сотворена: строка 149
Из примулы горной, строка 148
Ракитника, таволги, из дикой гвоздики строка 121
Создана,
Из бобов, таящих строка 75
Под сенью своею белых призраков сонм,
стихии земной строка 76
Племена. строка 150
Девятью дарами девяти цветов – строка 152
Крапивы, дуба, терна, строка 129
Робкого каштана – [146
Я наделена. 145]
Из цветов мое тело маг Гвидион создал. строка 149
Персты мои долги и белы, строка 220
Словно девятый вал. строка 153
В Уэльсе и в Ирландии примула считается растением эльфов и фэйри, а в английском фольклоре символизирует распутство (сравните «the primrose path of dalliance»[42], «тропу праздности, утопающую в примулах», в «Гамлете», «the primrose of her wantonness», «примулу ее распутства», в стихотворном сборнике «Золотое руно» Брэтвейта[43]). Точно так же Мильтоновы «yellow-skirted fayes»[44], «феи в желтых одеяниях», носили цвета примулы. «Дикая гвоздика», собственно «куколь посевной», – это «плевелы» из притчи, что диавол посеял между пшеницей[45]. Бобы традиционно ассоциируются с призраками: недаром Плиний в «Естественной истории» замечает, что души умерших переселяются в бобы, и посему в Древней Греции и Риме существовало гомеопатическое средство защиты от привидений – в них полагалось плеваться бобами. По словам шотландского поэта Монтгомери[46] (1605), ведьмы отправлялись на шабаш, оседлав стебли бобов или фасоли.
Но вернемся к «Битве деревьев». Хотя ирландские поэты считали папоротник «деревом», «ограбленным» папоротник стал, видимо, потому, что у него похитили фантастические папоротниковые семена, которые могут сделать своего обладателя невидимым и наделить его другими магическими способностями. Вызывает сомнения дважды упомянутая «бирючина». В ирландской «поэтической дендрологии» бирючина не играет особой роли и не именовалась «благословенной». Возможно, во второй раз, в строке 100, в облике бирючины скрывается дикая яблоня, дерево, которое скорее склонно улыбаться в тени утеса и служит эмблемой защищенности, укрытия, ибо с дикой яблоней всегда ассоциируется Олуэн, веселая Афродита валлийской легенды. Строка девяносто девять («Плоды его – твое приданое») никак не может относиться к орешнику. Согласно воззрениям, бытовавшим во времена Гвиона, лишь два фруктовых дерева наделяли невесту приданым: кладбищенский тис, ягоды которого осыпали церковную паперть, где всегда совершалось венчание, и кладбищенская рябина, часто заменявшая тис в Уэльсе. Полагаю, речь в «Битве деревьев» должна идти о тисе; его ягоды высоко ценились за сладкий, вяжущий вкус. В ирландской поэме Х в. «Отшельник и король» Марван, брат короля Гуйре Коннахтского, восхваляет их как чудесное яство.
Оставшиеся строфы поэмы в виде эксперимента можно реконструировать так:
Ограбил я папоротник, (строки 110, 160, 161)
Я все тайны постиг,
Мудрый Мат ап Матонви
Не столь был велик.
Прославились в битвах (строки 101, 71–73, 77, 78)
Терн, чьи горьки плоды,
И боярышник, сходный с ним,
Вестник беды.
Тростник быстроногий, (строки 116, 111–113)
Ракитник, его чада,
И дрок, прежде буйный,
А ныне – отрада.
Наделявший приданым (строки 97, 99, 128, 141, 60)
Тис стоял в стороне,
С бузиною, что долго
Не сгорает в огне,
И с яблоней дикой
В тени под скалой – (строки 100, 139, 140)
Из «Песни о Мэлдерве»
Насмешницей злой.
Хоть со мной не считались – (строки 83, 54, 25, 26)
Так я был мал, —
Я в битве деревьев
Славу снискал.
Хотя ракитник не кажется воинственным, древнеримский поэт Граттий[47] утверждает, что из древесины высокого ракитника с белыми цветами, вида «Genista Altinates», в древние времена часто изготавливали древки копий и дротиков: именно они и составляют, по-видимому, его потомство. Дословное название битвы деревьев «Goddeu Brig», упомянутое в последней строфе, означает «древесные кроны». Оно весьма озадачивало комментаторов, полагавших, что «Câd Goddeu» – битва деревьев – происходила на территории графства Шропшир (по-валлийски «Goddeu», Годдай, дословно «деревья»). «Песня о Мэлдерве» («Gorchan Maelderw», дословно «Заклинание Мэлдерва») – длинная поэма, приписываемая поэту VI в. Талиесину, который, по преданию, настоятельно рекомендовал ее в качестве классического произведения коллегам-бардам. Яблоня в поэзии была символом бессмертия, и потому здесь она изображена вырастающей из заклинаний Талиесина.
Ниже, предвосхищая на несколько глав свои выводы, я привожу последовательность, в которой деревья вступали в битву:
Следует добавить, что в оригинале между строками 60–61 находятся восемь строк, по мнению Д. В. Нэша не поддающихся интерпретации: начиная с «вожди погибают» и заканчивая «в крови по ягодицы». Трудно сказать, входят ли они в состав поэмы.
Пусть остальные фрагменты, включенные в этот пестрый текст, вычленяет кто-то другой. Кроме монологов Блодуэд, Ху Гадарна и Аполлона, в поэме содержится сатира на монастырских богословов, которые, рассевшись кружком, испытывают угрюмое наслаждение от собственных мрачных пророчеств Судного дня (строки 62–66), предрекая кромешную тьму, содрогнувшиеся горы, очищающее огненное горнило (строки 131–134), проклятия, на которые обречены сотни душ (строки 39–40), – и ломают головы над абсурдными проблемами, тревожившими средневековых школяров:
Место тысяче ангелов (строки 204, 205)
Даст ножа остриё,
А скольким мирам – (строки 167, 176)
Тупое копье?
На их фоне у Гвиона есть повод похвалиться собственной ученостью:
Предрекаю я благо, (строки 201, 200)
В алый плащ облачен.
Девять раз по сто песен (строка 184)
Знаю, мудр и учен.
По словам поэта XII в. Кинделу, красный цвет слыл наиболее почетным у древних валлийцев; недаром Гвион противопоставляет свое алое одеяние жалким рясам монахов. Из «девяти раз по сто песен» он упоминает только две, причем обе они вошли в «Красную книгу из Хергеста»: это «Охота на Турх Труита» (строка 189) и «Видение Максена Вледига» (строки 162, 163).
Строки 206–211, по-видимому, относятся к «Песне о конях» («Can y Meirch», «Кан и Марх»), другой поэме Гвиона, речь в которой идет о состязании в беге коней Эльфина и Мэлгуна, описанном и в «Повести о Талиесине».
Один из наиболее интересных фрагментов поэмы можно реконструировать по строкам 29–32, 36–37 и 234–237:
Жалкие барды притворяются,
Они притворяются ужасным чудовищем,
Стоглавым,
Пятнистым змеем с гребнем на спине,
Жабой, лядвеи коей
Усеяны сотней когтей,
Золотое ожерелье, оправленное в золото,
Даровано мне;
И я наслаждаюсь им, благодаря
Утомительному труду златокузнеца.
Поскольку Гвион отождествляет себя с этими бардами, вероятно, они названы «жалкими» только иронически. Стоглавый змей, стерегущий чудесный сад Гесперид, и жаба с сотней когтей, таящая в голове драгоценный камень (упоминаемая изгнанным Герцогом в комедии Шекспира «Как вам это понравится»), есть вершители древних мистерий, участники которых опьянялись галлюциногенными поганками и адептом которых, вероятно, был Гвион. Европейские мистерии подобного рода исследованы хуже, чем их мексиканский аналог, однако Роберт Гордон Уоссон и его супруга Валентина[48], а также профессор Роже Жан Эйм[49] доказали, что мексиканскому богу доколумбовой эпохи Тлалоку, властителю галлюциногенных грибов, изображавшемуся в виде жабы в зубчатой, подобной гребню змея короне, на протяжении тысяч лет посвящались общинные ритуалы поедания галлюциногенных грибов рода псилоцибе. Стоит вкусить их, как они вызывают видения сверхъестественной красоты. Европейский аналог Тлалока, Дионис, слишком многими чертами напоминает его, чтобы это можно было счесть простым совпадением. Вероятно, они представляют собой разные ипостаси одного и того же божества, хотя трудно сказать, к какому именно историческому периоду относятся культурные контакты Старого и Нового Света.
В своем предисловии к исправленному изданию «Мифов Древней Греции» я предположил, что тайный дионисийский культ грибов был заимствован ахейцами Аргоса у автохтонных пеласгов. Участники дионисийского культа – кентавры, сатиры и менады – по-видимому, предавались ритуальному вкушению ядовитого пятнистого мухомора (Amanita muscaria), который наделяет невероятной физической силой, обостренной чувственностью, бредовыми видениями и пророческим даром. Участники элевсинских, орфических и других мистерий, может быть, употребляли также Panaeolus papilionaceus, панеолус мотыльковый, маленький гриб, произрастающий на навозных кучах, до сих пор используемый португальскими ведьмами и производящий примерно то же воздействие, что и мескалин. В строках 234–237 Гвион намекает, что есть только один драгоценный камень, который может «размножиться», превратившись под чарами «жабы» и «змея» в целую сокровищницу. Его заявление, что он-де ученее Мата и владеет мириадами тайн, возможно, также объясняется воздействием жабы и змея; в любом случае грибы рода псилоцибе дают ощущение вселенского просветления, как я могу засвидетельствовать сам. «Свет, коему имя – Великолепие», возможно, сказано не о солнце, а о фантастически ярком видении.
В «Книге Талиесина» содержатся несколько подобных очень перепутанных фрагментов или поэм, ожидающих возрождения. Это чрезвычайно интересная задача, однако сначала нужно восстановить и правильно перевести исходные тексты. Предпринятые мною усилия ни в коем случае нельзя счесть окончательными.
Câd Goddeu (Битва деревьев)
Буки оделись
Зеленой листвой,
Забыв зимний холод
И плен снеговой.
Если бук торжествует,
Хоть в плену колдовства
Дуб, сильный воин, —
То надежда жива!
Ограбил я папоротник,
Я все тайны постиг,
Мудрый Мат ап Матонви
Не столь был велик.
Девять даров
Ниспослал мне Господь:
Девяти деревьев
Я кровь и плоть —
Сливы, айвы,
Шелковицы, рябины,
Черешни, черники,
Вишни, груши, малины.
Из замка Февэннедд
Я взирал, онемев,
На дивное войско
Трав и дерев.
Отречься от счастья
Судьба им велит,
Превратившись в магический
Алфавит.
Сие чудо исторгло
У ратников стон:
«Уж не начал ли снова
Войну Гвидион?»
Разгорелись две битвы:
У корней языка
И глубоко в мозгу.
Чья победа близка?
Ольху – нет ей равных —
Не устрашить,
Ива, рябина
Медлят в битву вступить.
Остролист не отступит
В бою ни на шаг;
Шипами его
Поражен грозный враг.
Дуб только шагнет —
И дрожит небосвод.
Повсюду зовется
Он «стражем ворот».
И плющ, и утесник —
Крепкий воинам щит.
Орешник-судья
Судьбы брани вершит.
Необузданна пихта,
Ясень в битве жесток.
Один остановит
Вражьей рати поток.
Как знати пристало,
Береза на бой
Явилась последней,
Не спеша стала в строй.
У вереска тополь
Утешенья просил,
От ран изнемог он,
Лишившийся сил.
Тополя-братья
Как один сметены
Сталью холодной
И вихрем войны.
Средь вязов-дружинников
На врага виноград
Бросается яро,
Увенчан стократ.
Прославились в битвах
Терн, чьи горьки плоды,
И боярышник, сходный с ним,
Вестник беды.
Тростник быстроногий,
Ракитник, его чада,
И дрок, прежде буйный,
А ныне – отрада.
Наделявший приданым
Тис стоял в стороне,
С бузиною, что долго
Не сгорает в огне,
И с яблоней дикой
В тени под скалой —
Из «Песни о Мэлдерве»
Насмешницей злой.
Робеют, в укрытье
Таясь дотемна,
Жимолость, бирючина
И с ними сосна.
Хоть со мной не считались —
Так я был мал, —
Я в битве деревьев
Славу снискал.