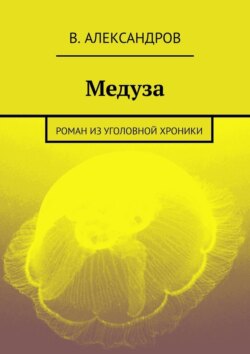Читать книгу Медуза. Роман из уголовной хроники - В. Александров - Страница 10
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УБИЙСТВО
Глава 8
ОглавлениеКогда юристы уехали, в доме, где совершилось преступление, окончились приготовления, и тела убитых были выставлены в зале на поставленных рядом столах. Эти молодые супруги, недавно еще обвенчанные, лежали теперь рядом, так же как стояли рядом под венцом. Но какая разница! Там Тименев стоял, хоть и с опущенными глазами, по-видимому, со смирением, но с явно выражавшимся самодовольствием, радостью в лице. А молодая? Как хороша она была в прелестном наряде невесты, украшенная цветами невинности, слегка бледная, взволнованная, поминутно красневшая под устремленными на нее со всех сторон взглядами!.. Здесь же лежали два безобразных, изуродованных трупа… неподвижные, с желтыми, восковыми лицами и закрытыми глазами, от них веяло каким-то холодом, предвестником холода и мрака могилы. Как там взоры всех смотрели на нее с восхищением, а на него с невольной завистью, так и здесь они также устремлялись на них, но с тайным страхом, с каким-то тяжелым отвращением. Спрашивается, что сделали эти несчастные, чтобы заслужить такой быстрый ужасный переход? В чем состояло их преступление? Это преступление ясно: один сумел нажить своими способностями хорошие материальные средства, другая была красива собой. Разве этого мало? Род человеческий бесчеловечен – одних, за пороки, он карает законами, других, за достоинства, он карает самовольно, но всех и за все карает – общее правило!
Невозможно было оставить Антонину Аркадьевну в ее спальне, рядом с залом. Движение людей и монотонное чтение читальщика должны были беспокоить, раздражать ее расстроенные нервы. Павел решился перенести сестру вместе с кроватью в спальню Тименева. Это была угловая, самая отдаленная комната, и шум, а главное, мрачное, невыносимое для слуха надгробное чтение, не достигали туда. Перемещение совершилось беспрепятственно – Антонина лежала молча, с закрытыми глазами.
Алинский уехал в имение Неверовых. Павел, отпустив Катю обедать, остался сидеть около сестры и погрузился в печальные размышления. Он только что окончил университет, следовательно, находился в самом радужном, блаженном настроении духа, когда тяжелая эпоха ученья, наконец, миновала и наступило светлое время – время свободы, когда дышится полной грудью, а голова полна мечтаний и надежд, одним словом, когда молодой человек начинает жить. Павел рассчитывал успокоиться, отдохнуть от трудов в деревне, в родном кругу, и вдруг – одна сестра бесчеловечно убита, а с другой тоже, может быть, несчастье…
Он поднял на нее глаза… Антонина, приподнявшись на локте, пристально смотрела на него своими большими серыми глазами. Павел быстро поднялся и подошел к ней.
– Наконец-то, – проговорил он.
– Павел! – произнесла молодая девушка тихим, но твердым голосом. – С Верой ничего не случилось?
Этот прямой вопрос, так сказать, в упор, смутил Павла, нервы его тоже были расстроены. Он невольно остановился.
– Павел, – повторяла Антонина, – скажи мне, умоляю тебя, что с Верой?
– Да ничего… – пробормотал смущенный молодой человек. – Ты ведь знаешь, ужасное несчастье… Тебе сказали очень грубо… Она тоже захворала…
– Неправда! Ты мне не хочешь сказать! Я знаю, я чувствую, что с нею что-то случилось… Где она?
Ее большие глаза смотрели на него так пристально, так упорно, что он совершенно растерялся.
– Отчего ты не хочешь мне сказать? Я теперь поправилась – я не больна… Говори правду!
– Ты не больна! Да что это ты? Посмотри, какая ты! Доктор говорит…
– Доктор ошибается. Повторяю тебе – я не больна и прошу: скажи мне, где Вера и что с ней?
– Где Вера? Ах, Боже мой! Да где же она может быть? У себя, конечно… Лежит…
– Дома?
Павел с изумлением взглянул на сестру.
– Конечно, дома. Где же ей быть?
– Скажи мне, что с ней случилось? – опять прозвучал настойчивый вопрос.
– Да что ты это, право? Слышала ты разве что-нибудь или тебе показалось?..
– Я слышала… – произнесла неопределенно Антонина.
– И знаешь?
– И знаю…
– Но она только ранена, только ранена, уверяю тебя… – торопливо произнес Павел и тотчас спохватился, что сделал промах. Он был сам слишком расстроен и не обладал в настоящую минуту достаточным хладнокровием.
Антонина взглянула на него с невыразимым удивлением.
– Вера ранена? – пробормотала она. – Но кем же?
– Видишь ли… Этот человек, убивший Петра Сергеевича, не удовольствовался этим… Он пошел в спальню сестры…
– Ну? – нетерпеливо произнесла девушка.
– Ну – и ранил ее…
– Да это невозможно! – вскрикнула она вдруг, порывисто приподнявшись. – Говори мне все, все! Всю правду! Прошу тебя – говори! Ты разве не понимаешь, что так хуже? Ты просто убиваешь меня! Говори же, говори!..
Павел понял, что отступать теперь не может. Ему вдруг сделалось ясно, что она непременно все от него выпытает. Он почувствовал какое-то неодолимое отвращение притворяться, просто не имел для этого достаточно сил, да и только. Будь, что будет, а его положение невыносимо, и он не в состоянии больше находиться в нем…
– Ну – да! Большое несчастье… – проговорил он как-то машинально.
– Большое несчастие? Да что такое? Послушай! – вдруг заговорила она как-то скоро, сбивчиво. – Ты мне должен все сказать – понимаешь ли, все! Я этого больше не могу выносить… Я чувствую, что если ты не скажешь мне все, ты меня убьешь… Я это чувствую! Понимаешь ли? Мне надо, мне совершенно необходимо… Если ты не скажешь мне, ты тоже будешь убийцей… Понимаешь – ты будешь моим убийцей…
– Да что я тебе скажу? – проговорил с отчаянием молодой человек. – Большое несчастие… Очень большое!.. Вера скончалась…
– Скончалась? Убита!.. Им?
– Им.
– Да ведь это невозможно! – вскричала она растерянно. – Что ты мне рассказываешь? Ты смеешься надо мной… Ты шутишь… Перестань же шутить!..
– До шуток ли мне теперь? – мрачно взглянул на нее Павел.
Антонина встретила этот взгляд и поняла его. Она протянула руки, слабо вскрикнула и тяжело опустилась на подушки.
– Я убил ее!.. – бросился к ней Павел в отчаянии.
В это время, к счастью, приехал доктор навестить молодую девушку. Он успокоил Павла, что его сестра жива, но что у нее начинается горячка и необходимо принять самые быстрые, энергичные меры, чтобы прервать болезнь.
Пока хлопотали и суетились около Антонины, приехал прокурор. Павел встретил его совершенно расстроенный, разбитый новым несчастием.
– Что у вас еще случилось? – спросил удивленный Иван Ильич. – На вас лица нет!
– Опять большое несчастье! И в нем только я, я один виноват!.. – обвинил себя бедный молодой человек и рассказал, что случилось с Антониной. – Просто не понимаю, что с ней сделалось, – заключил рассказ Павел, – только что очнулась и сейчас про Веру. Как Вера, да что с Верой? Просто не дала ни вздохнуть, ни приготовиться… Я, право, совсем растерялся и не мог выдержать…
Прокурор слушал его очень внимательно.
– Ну, ничего – что же делать? Может быть, оно и к лучшему – ведь все равно пришлось бы сказать? Вышло так, следовательно, и должно было так выйти, значит, это судьба. Ободритесь! Ведь доктор надеется прервать болезнь!
– Надеяться-то он надеется, да Бог знает – удастся ли?
– А может быть, и удастся? Наконец, горячка – еще не смерть, и от горячки люди выздоравливают. Она же у вас, кажется, девушка довольно сильная, не столичная кисейная барышня… Вот что, Павел Аркадьевич, не могу ли я видеть доктора? На минуту! Только на одну минуту!
– Я сейчас пришлю его к вам, – направился Павел к двери.
– Кроме того, – остановил его прокурор, – я попросил бы вас прислать ко мне камердинера покойного Тименева и горничную, как ее – Катерина, кажется?
– Сейчас пришлю.
– Мне не надолго, очень не надолго! Больше я вас и беспокоить не буду. Понимаю, что вам теперь не до нас.
Доктор пришел.
– Я желал бы, доктор, – обратился к нему Иван Ильич, – поговорить с вами о деле, об очень важном деле. Конечно, не теперь – вы слишком заняты, – но хотя попозже?
– Я к вашим услугам.
– Когда вы будете дома?
– В шесть часов я всегда дома. А то, если вам угодно, я заеду к вам.
– Нет, зачем же вам беспокоиться? Я приеду в шесть часов. Дело-то для меня очень важное… однако, идите, идите к больной, я вас не задерживаю. Кстати – как она?
– Ничего еще не могу сказать наверно, но постараюсь перервать горячку.
Доктор ушел. Явились Григорий и Катя. Прокурор приступил тогда к производству опыта, который, по-видимому, сильно его интересовал.
Приказав чтецу прекратить на время чтение, он повел обоих слуг в спальню Веры, велел запереть на ключ дверь в уборную и разговаривать сначала тихо, а потом громче. Сам же вошел в комнату Антонины и стал у отворенной двери в уборную. Потом он запер эту дверь и еще постоял около нее некоторое время. Затем перешел в будуар, стал у двери в спальню и, приказав людям разговаривать опять тихо, приложил к ней ухо. Исполнив все это, он позвал людей, горничную отпустил, а камердинеру приказал пройти из прихожей через залу в гостиную осторожно, но не слишком уже тихо, сам же стал в комнате Антонины, у запертой наглухо двери в залу.
Окончив все эти таинственные для прислуги действия, Иван Ильич поручил Григорию кланяться Павлу Аркадьевичу, которого не хотел отвлекать от захворавшей сестры, и уехал.
Ровно в шесть часов он вошел к доктору.
– Вы меня извините, доктор, – начал он, садясь в пододвинутое ему хозяином кресло, – что я вас беспокою, но дело, о котором я хочу поговорить или, вернее, посоветоваться с вами, очень для меня важно. Да, очень, важно! – заключил он с неопределенно задумчивым выражением.
– Я вас слушаю.
– Но, прежде чем приступить к нему, считаю себя обязанным обратиться к вам с покорнейшей просьбой: я желал бы, что все, что мы друг другу скажем, осталось совершенно между нами, ну, знаете, совершенно между нами. Как я даю вам честное слово в том, что никто не узнает, что вы мне скажете, так и вас прошу сохранить в этом отношении полную тайну. Ведь вы не отказываете пациенту сохранить его болезнь в тайне, если он это пожелает, также и я прошу вас о сохранении в тайне моей болезни. Вы не откажете?
– Не беспокойтесь, могу вас заверить, что все останется между нами, – серьезно сказал врач.
– Отлично! Значит, вступление кончено. Приступаю к делу. Я пришел посоветоваться с вами насчет одной из ваших пациенток…
– Я догадываюсь, о ком, – как-то задумчиво проговорил доктор.
– И вы не ошибаетесь. Да – об Антонине Аркадьевне Неверовой. Положение ее в высшей степени меня интересует, и я имею, относительно его, предложить вам для решения два вопроса. Первый заключается в том, натурально ли, что она упала вдруг без чувств при известии о смерти зятя? В этих случаях, насколько мне известно, женское горе, скажем, даже отчаяние, выражается больше плачем, рыданиями, даже может быть легким обмороком, который обозначается довольно общепринятым выражением «сделалось дурно». Но лишиться чувств, то есть совсем, знаете, в полном смысле этого слова…
– Это возможно. У Антонины Аркадьевны натура нервная, впечатлительная. Ей грубо сообщают об убийстве близкого человека, к которому она была привязана… Сильное потрясение…
– Вот тут-то и вопрос, – перебил прокурор. – Можно ли предполагать, что она была настолько «привязана» к зятю, которого знала всего год с небольшим, да притом к человеку, не особенно симпатичному молодой девушке несколько романического характера, чтобы, узнав о его смерти, лишиться чувств – грохнуться на пол? Воля ваша, доктор, это что-то не совсем понятно.
– Я с вами отчасти согласен – не совсем понятно. Но если мы прибавим, что она при этом испугалась за сестру, которую очень любила… Я даже слышал, что она упомянула о ней…
– Здесь опять затруднение, любезный доктор. Про сестру она упомянула, это правда, да только не после того, как ей сказали про убийство зятя, а раньше.
– Раньше? – несколько удивился доктор.
– Да, раньше. По показаниям людей, она спросила о сестре только что отворила дверь и увидела перед собой испуганные лица прислуги. Ну, положим, предчувствуя, что случилось несчастие, первая мысль ее была о сестре…
– Это ясно.
– Довольно ясно, – как-то неопределенно согласился Иван Ильич. – Но все-таки это неестественное падение…
– Я могу объяснить его только слабостью ее нервов, может быть раздраженных какими-нибудь предшествовавшими неудовольствиями или печалями. Вообще я заметил, что в последнее время Антонина Аркадьевна часто бывала задумчива и грустна.
– А! Так вы допускаете предшествовавшие печали и раздраженные нервы!
– Не только допускаю, но даже уверен, что они были расстроены. Эту уверенность я высказываю, не основываясь единственно на ее падении без чувств при известии об убийстве, а также и на том, какой я ее видел раньше.
– Хорошо-с. Следовательно, это ненатуральное, так сказать, романическое падение произошло не только от мгновенного потрясения, произведенного, надо признаться, грубо сообщенным фактом, а оно было уже раньше подготовлено состоянием нервов и, может быть, знаете, эдак основательно подготовлено?
– Полагаю, что было подготовлено, хотя утверждать уверенно я не могу.
– Да зачем же утверждать наверно? Ведь у нас с вами не форменный анализ, а частный разговор. Итак, первый пункт объяснен – теперь перехожу ко второму, еще более загадочному. Скажите, пожалуйста, возможно ли дело, чтобы даже лишившись чувств от потрясающего известия молодая девушка могла пролежать почти неподвижно, с закрытыми глазами, без всякого вопроса, весьма естественного при таких обстоятельствах, в течение нескольких часов? Быть даже перенесенной в другую комнату, но и при этом не открыть глаз, не проронить ни слова? Это уже, согласитесь, факт из ряда вон выходящий!
Доктор пристально взглянул на прокурора.
– Вы правду сказали, – заметил он, – что разговор этот должен остаться между нами…
– И останется. Конечно, ни вы, ни я не пойдем его рассказывать. Зачем? Подозрения в совершении преступления на Антонину Аркадьевну быть не может, про это и говорить нечего.
– Что касается до этого, – энергично заявил доктор, – то я твердо убежден, даже приму присягу, что она ничего о нем не знала до сегодняшнего утра. Она была поражена этим убийством. Притворство с ее стороны здесь немыслимо.
– Я совершенно согласен с вами и опять-таки повторяю, что подозрение на нее падать не может. Но все-таки, совершенно по другой причине, желал бы знать ваше суждение о ее состоянии в течение сегодняшнего утра.
– Мое мнение, что оно было не притворное и не могло быть притворное.
– Опять-таки – согласен. Я его и сам не почитаю притворным, а все-таки без сознания она не была.
– То есть в состоянии полного бессознания не была, но…
– Вы мне позволите, доктор, выяснить вам это положение, как я его понимаю? Если мое определение окажется неподходящим, то, пожалуйста, не церемоньтесь, скажите мне прямо, что я ошибаюсь. Я не особенно самолюбив, да и не Бог весть какой знаток в душевных болезнях. Итак, я рассуждаю следующим образом: когда человек бывает поражен сильным сердечным горем, он впадает в какое-то странное состояние, сопровождаемое не только нравственным расстройством, но и физическим изнеможением. Тело ослабевает, мысли витают где-то в пространстве. Он думает только о поразившем его несчастий и думает как-то беспорядочно, непоследовательно: то за один конец схватится, то за другой. Он старается привести свои мысли в определенное направление… привыкнуть, так сказать, к своему новому положению. В этом состоянии малейшее беспокойство ему невыносимо, он не может видеть людей, слышать их голоса, одним словом, ему, как говорят, – «противно смотреть на Божий свет». Он в это время собирает свои нравственные и физические силы, чтобы вступить в борьбу с поразившим его горем… Так ли?
– Я, право, не понимаю, – улыбнулся доктор, – зачем вам мое мнение в этом случае? Вы так верно определили состояние человека, которого поразило большое несчастие, что мне и прибавить ничего не остается.
– Ну, все-таки, вы в этом отношении авторитет… Положиться на свое единичное мнение мне было как-то неловко. Итак, мое определение состояния Антонины Аркадьевны довольно верно?
– Не только довольно, но, по моему мнению, совершенно вер-
– Она без сознания не была?
– Не была.
– Ей только был «Божий свет не мил», и она лежала с закрытыми глазами, чтобы не видеть этого Божьего света?
– Думаю, что так, потому-то я и предписал ей полный покой. Ближайшим следствием такого состояния, когда, как вы говорите, «Божий свет не мил», часто бывает горячка или воспаление мозга.
– Но надеюсь, что этого не случится?
– Не могу еще ничего сказать. Вечером навещу ее, и тогда, может быть, возможно будет определить.
– Вы не откажете сообщить мне о результате сегодня же, любезный доктор?
– С удовольствием.
– Ведь горячка сопровождается бредом? – как-то неопределенно проговорил прокурор.
– Сопровождается весьма часто, даже почти всегда. Но только, – решительно высказался доктор, – бред в большинстве случаев бывает очень бессвязный и вовсе не касается главной мысли, занимавшей больного перед болезнью, так что из этого источника едва ли можно что-нибудь узнать обстоятельного.
– О, помилуйте, – протестовал Иван Ильич, – я вовсе не с этой целью спросил! Полагаю только, что, в случае такого несчастья, не лишнее было бы удалить прислугу… А-то потом пойдут разные сплетни да пересуды!.. Поверьте, доктор, что я спросил о бреде только с целью избавить Антонину Аркадьевну от могущих случиться из-за него неудовольствий, а вовсе не с какими-нибудь коварными целями. Право, на нас, бедных блюстителей правосудия, смотрят подчас, как на каких-то палачей! Неужели же и у нас нет человеческих чувств?
– Я вовсе не хотел вас обидеть, поверьте, – сказал недовольный своей неуместной откровенностью доктор, – понимаю вашу цель и удалю прислугу, будьте покойны.
– Затем, – поднялся с места прокурор, – позвольте вас поблагодарить и проститься.
Он взглянул на часы.
– Эге! Уже скоро семь часов, а я еще и не обедал! Вот что значит – служба: в этом отношении наши профессии очень сходны, – продолжал он, пожимая руку врача, – часто ни поесть, ни поспать не дадут вовремя, – являйся в данную минуту!
– Что же делать! – улыбнулся доктор. – Зато пользу человечеству приносим…
– Приносить-то приносим, только прямо противоположную: вы положительную – излечиваете больного, а мы отрицательную – без церемонии стираем его с лица земли. До свиданья!
Прокурор поехал домой.