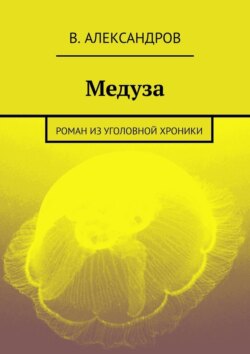Читать книгу Медуза. Роман из уголовной хроники - В. Александров - Страница 12
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УБИЙСТВО
Глава 10
ОглавлениеАлинские жили в одной из отдаленных, пустынных улиц на самом краю города. Улица эта принадлежала к числу тех, которые никогда не имели названия, а если и имели, то оно давно уже испарилось из памяти ее обитателей. Дома в ней были деревянные, одноэтажные, большею частью очень ветхие, отделявшиеся один от другого длинными заборами. На улице виднелся всего один подъезд – дверь мелочной лавки, щедро украшенная самыми разноцветными объявлениями, преимущественно табачных фабрик, вообще же для выхода на улицу во всеобщем употреблении были ворота. Появление извозчика в этой улице считалось событием довольно редким, а собственный экипаж, случайно туда забравшийся, производил всеобщую «сенсацию». Весной и осенью, когда вообще все улицы российских городов, не только скромные и отдаленные, но большие и людные, покрываются обильной неудобопроходимой грязью, кварталы ее обращались в неприступные крепости, окруженные неодолимыми преградами в виде болот грязи и бесконечных луж – целых морей в миниатюре. Пробраться благополучно в дом или выбраться из него представлялось трудной, часто невозможной задачей. Нечего и говорить, что улица была девственна относительно мостовой, а украшавшие ее, «для удобства пешеходов», деревянные мостки представляли серьезную опасность для тех несчастных, кого злая судьба обрекала на необходимость путешествовать по ним темной, безлунной ночью. Одним словом, это была одна из тех улиц, которым долго еще придется ожидать какого-либо применения на практике усовершенствований современной цивилизации, а, может быть, и до скончания века оставаться при одних ожиданиях.
На дворе одного из домов, в старом деревянном флигеле, состоявшем из трех маленьких комнат и кухни, помещалась Надежда Ивановна с сыном и дочерью.
Покойный Алинский занимал порядочное место в частном учреждении. Человек смирный, честный и трудолюбивый, он получал значительное содержание, и семейство жило не только безбедно, но даже весьма прилично. Он имел возможность определить сына в мужскую, а потом дочь в женскую гимназию города К. Таким образом дела, казалось, шли хорошо, но несчастный случай все погубил: только что сын, прекрасно окончив гимназический курс, перешел в университет, Алинский-отец сильно захворал.
Один из главных недостатков частной службы Алинского, хотя и хорошо оплачиваемой, заключался в ее неумолимости к человеческим недугам и вообще ко всем уклонениям от работы, происходившим даже по самым законным, основательным причинам. Так, например, за продолжительной болезнью неминуемо следовали вычеты из жалованья и даже угрозы лишением места и заменой другим лицом, тем более, что охотников и претендентов на его место было много. Они как стая коршунов слетелись бы, почуяв возможность пристроиться на открывающуюся вакансию. Были также протекции и влияния… Дело без работника стоять не могло, а временным работником на чужом месте никто не хотел быть. Кроме того, частная служба Алинского не давала обеспечения в будущем ни самому служащему, ни его семье. Служил, служил человек, а как силы начинают изменять, служить невмоготу и приходится уходить, так извольте получить единовременное пособие и – с Богом! Хорошо еще, если и единовременным-то удостаивали, а то просто одной «искренней благодарностью» утешали… Другой служащий на месте Алинского ввиду своего необеспеченного будущего норовил бы заблаговременно сам позаботиться о себе и сколотить копейку на черный день, частью из значительного получаемого содержания, а частью другими, более или менее нелегальными способами. Ныне пришли к убеждению, что заботиться о себе сродно человеческой природе, почему трудно ожидать от обыденного смертного геройства и самоотвержения стоического мудреца.
Алинский нелегально о своем будущем благосостоянии не заботился, а получаемое содержание как-то всегда тратилось, так что когда он захворал и получил единовременное пособие с «благодарностью», то попал в очень затруднительное положение. Может быть, такой честный, хороший работник и нашел бы возможность поправить дела, если бы выздоровел, но этого не случилось: болезнь свела его в могилу.
Надежда Ивановна осталась вдовой без всяких средств к жизни. Пришлось работать – и тяжело было работать непривычными руками! Но что же делать-то? Нужда всему научит. Кое-как перебивались… Мать и дочь занимались шитьем, а сын колесил по городу по урокам за самую ничтожную плату. Хорошо еще, что он познакомился и подружился в университете с Павлом Неверовым.
Неверовы, люди со средствами и добрые, помогали Алинским, доставляя им работу, которую щедро оплачивали. Кроме того, они приглашали всю семью каждое лето гостить к себе в имение, так что четыре месяца в году, а иногда и больше, Алинские жили на всем готовом. Может быть, они пригласили бы мать с дочерью и совсем переселиться в деревню, но подобное предложение не вполне согласовывалось с характерами благодетельствуемых ими лиц, о которых скажем кстати несколько слов.
Надежда Ивановна была женщина добрая, даже очень добрая, но бесхарактерная и большая эгоистка. Эгоизм ее особенно проявлялся в характере любви к мужу и к детям. Она их очень любила, но по-своему: любила тиранически. Она как будто воображала, что знает и понимает их лучше, чем сами они себя знают и понимают, и прописывала им законы «для их пользы», воображая, что это для них совершенно необходимо. Если они пробовали восставать против ее требований и решений, то она вступала в горячий спор, оканчивавшийся обыкновенно тем, что ей, наконец, уступали, хотя мысленно невольно говорили: «Ах ты, Господи! Ведь не отстанет… Ну тебя совсем!» Она же была твердо уверена, что уступка произошла оттого, что они убедились в глубокой логике ее доказательств, убедились в том, что она знает и понимает их пользу лучше их самих, почему вполне благоразумно последовали ее совету.
Подобная тираническая любовь бывает иногда невыносима даже в пустяках. Например: муж уходит со двора, жена требует, чтобы он надел кашне. «Ты простудишься! Ты непременно простудишься! Пожалуйста, надень! Как можно? Можешь схватить тиф, дифтерит… Не упрямься! Умоляю тебя – надень! Ведь ты знаешь, как я тебя люблю! Если ты умрешь – и я умру!» Такой решительный оборот речи служит для более наглядного доказательства. «Надень, милочка!» Муж, махнув рукой, надевает кашне. На улице ему невыносимо жарко – он развязывает злополучный шарф и получает хотя, положим, не тиф или дифтерит, но, во всяком случае, насморк и кашель. Хорошо еще, если тирания проявляется только в пустяках – это полгоря, а то часто и в важных делах несчастный смертный, осаждаемый подобной любовью и преследованиями, часто сопровождаемыми горькими слезами, поступает, махнув рукой, против своего желания, а иногда даже против здравого смысла. Что тут поделаешь? Вода и камень точит. Женские слезы та же вода, а человек не камень, его легче проточить…
Мало-помалу человек привыкает к этой тирании и, в большинстве случаев, подчиняется ей, хотя и прилагает все старания, чтобы избегать случаев ее проявления. Если же он сопротивляется, то происходит борьба, имеющая часто печальные последствия: ссоры, брань, крики и все за сими действиями следующее, потому что люди, обладающие тиранической любовью, отличаются бесхарактерностью и, вместе с тем, непобедимым упрямством. Они мучаются, страдают и предаются отчаянию, что их не понимают и не слушают. Но, при всем том, следует отдать им справедливость, что они доброго нрава и если действуют так, то по чистосердечному убеждению, что их долг сделать любимому человеку пользу «даже против его воли», если он сам пользы этой не понимает и не признает.
Кроме этой способности любить тиранически, Надежда Ивановна отличалась еще некоторой щекотливостью даже в мелочах. При жизни мужа она жила прилично, имела порядочное положение в обществе и теперь страдала от мысли, что, когда очутилась в бедности, к ней не будут относиться с тем уважением и внимательностью, как во врёмена ее благополучия. Отчасти она была права. Правда, люди истинно порядочные, обладающие врожденной деликатностью, отличаются особенной чуткостью в этом отношении. Они с бедным и вообще с человеком, низшим по положению, обращаются мягко, даже, может быть, мягче, чем с богатым или равным себе, но даже и эта, несколько натянутая, мягкость болезненно отзывается в сердце бедняка и напоминает ему неравенство положений. «Они со мной именно потому так любезны, – думает он, – что им меня жаль и они боятся меня обидеть». Подобная мысль очень тяжела и горька, особенно для самолюбивого человека. Подчас он, пожалуй, предпочел бы грубость, но откровенную. В этом отношении необходимо уметь держаться золотой середины. А как ее держаться? Умение это дается далеко не многим.
Лизе Алинской недавно минуло пятнадцать лет. Это была девушка тихая, скромная и необыкновенно развитая для своего возраста. В гимназии пробыла она недолго: когда отец умер, ее взяли, потому что не было средств платить. Брат учил ее, насколько мог, и сообщал ей свои мысли и взгляды. Результатом этого явилась между ними кроме братской привязанности еще тесная, искренняя дружба. Лиза обожала Всеволода и как брата, и как друга, и как наставника.
Постоянно работая вместе с матерью, лишенная общества девочек своего возраста, хотя приятного, но часто пагубного для пылкого, увлекающегося юношеского воображения, Лиза не видела соблазнов, жила простой трудовой жизнью и обещала быть со временем той светлой, девственно-прелестной девушкой, которая, сделавшись женой и матерью, составляет гордость и украшение разумного цивилизованного общества. Такие девушки, с молодости понявшие и усвоившие себе назначение женщины в серьезном значении этого слова, не увлекаются специально высшим образованием, не кричат о гражданских правах женщины, не заботятся о том, чтобы приравнять себя к мужчинам в исполнении общественных должностей, потому что сознают, что никакое общественное положение не может быть выше положения жены и матери и что все другие обязанности и стремления должны перед ним исчезнуть. Это, без сомнения, самое высокое положение в цивилизованном мире. Подобная женщина, друг своего мужа, идеал своих детей, настоящая глава своего дома, всегда будет занимать первое место и у семейного очага, и в обществе. Она любит своих близких не для себя, а для них, почему будет также любима ими. Иначе и быть не может. Какой бы ни был ее муж, он непременно кончит тем, что будет от души уважать ее и любить не пустой, скоропроходящей любовью, называемой «влюбленностью», а истинной, глубокой любовью, которая проходит только вместе с жизнью. Такие женщины, идеал семейной жизни, в наше время встречаются нечасто и, должно сказать правду, общество окружает их полным уважением: оно всегда, всюду отдает им первое место. В их руках и настоящее положение общества – мужья, и его будущее – дети.
Единственная девушка, заслужившая расположение несколько холодной в обращении с посторонними и скупой на сердечные излияния Лизы была Антонина Аркадьевна Неверова. Отчасти произошло это оттого, что они, проведя три лета вместе, могли узнать и оценить друг друга. Оценка была благоприятна для обеих – они сошлись, хотя и не совсем подходили одна к другой по возрасту. Но Лиза по характеру и развитию была гораздо старше своих лет, пожалуй, даже старше самой Антонины Аркадьевны, хотя разумной, но несколько романической девушки. Впрочем, следует заметить, что дружба их была совершенно обыденная: никаких тайн и секретов не поверялось, никаких мечтаний не сообщалось – едва ли они и были у Лизы Алинской – просто молодые девушки любили быть одна у другой, гулять и проводить время вместе. Со стороны Лизы это была чистая, нежная потребность женского сердца привязаться к кому-нибудь, и этой потребности совершенно удовлетворяла хорошенькая скромная Антонина, со стороны же последней были и некоторые другие причины.
Вера Аркадьевна, по возвращении домой из учебного заведения, обратила мало внимания на Лизу. Она, конечно, первым долгом осмотрела ее наружность и нашла, что она «так себе». Действительно, хотя у Лизы были прелестные карие глаза, но выражение их было несколько серьезное, а черты лица были неправильные, вообще же бледная, худая и болезненная на вид, хорошенькой она назваться не могла. По летам и характеру она также не соответствовала блестящей барышне, почему они были довольно далеки одна с другой. Вера, девушка добрая, но ветреная, обращалась с Лизой хотя и ласково, но небрежно, а Лиза была не из таких, чтобы сделать первый шаг, да и охоты к тому не имела, потому что со своей стороны заметила, что Вера Аркадьевна к ней по характеру не подходит. Впрочем, Вера едва ли могла подходить к какой-нибудь взрослой девушке: прекрасный пол, вообще, относился к ней с некоторой завистью и недоброжелательством, а она со всеми была в одинаковых отношениях «ma chere»12. Главной ареной ее действий был не прекрасный пол.
Брат Лизы, Всеволод Александрович, походил на нее как физически, так и нравственно. Он был очень серьезен и строг в своих воззрениях на жизнь и людей. Главной, отличительной чертой его характера было огромное самолюбие и щекотливость, доходившая до болезненности. Встречается много людей, у которых, подобно Алинскому, выдающимся свойством является самолюбие: оно руководит ими и служит основанием их взглядов и поступков. В молодости они хорошо учатся, работают неутомимо, просиживают ночи над науками не потому, что увлекаются ими и находят удовольствие их изучать, а из самолюбия, чтобы на экзаменах знать не только столько же, сколько другие, но больше других. По окончании образования, какую бы карьеру они себе ни наметили, они, что называется, лезут из кожи, чтобы выделиться, чтобы отличиться, и главным фактором их деятельности и стараний опять-таки является самолюбие. В большинстве случаев они бывают честны и благородны, даже до щепетильности, потому что не могут вынести мысли, что кто-нибудь не только может обвинить их в неблаговидном поступке, но даже считать их способными его сделать. Они дорожат мнением не только света или людей своей среды, но мнением всех и каждого. Если, например, им покажется, что встреченная на улице совершенно незнакомая личность посмотрела на них косо или насмешливо, они сейчас смутятся, покраснеют и будут некоторое время мучиться мыслью, что именно она могла найти в них дурного или смешного? Особенно для них страшно смешное – пусть уж лучше будет дурное. Редко они способны с кем-нибудь близко сойтись или подружиться, ни в заведении, где получают образование, ни в дальнейшей жизни, и это вполне понятно: сообщить кому бы то ни было откровенно задушевную мысль, если она может набросить на них хотя малейшую тень или подать повод к насмешке, для них слишком тяжело, даже невозможно. Если они с кем-нибудь и познакомятся короче, то будут только поверенными его секретов, а сами никогда не выскажутся. У таких людей душа никогда не бывает нараспашку. Конечно, есть исключения, можно встретить и откровенно-самолюбивого человека, но такие попадаются редко. Большинство принадлежит к описываемой категории, хотя, конечно, никто в том не сознается и не сознается опять-таки, весьма понятно, потому, что такой характер далеко не может быть назван совершенством, а следовательно и сознание неудобно.
Щекотливость во всем, даже в мелочах, необходимо должна соединяться с таким самолюбием, а если еще человек беден, так сказать, принижен судьбой, то щекотливости этой является полный простор, и она развивается до болезненности. Хотя он ничего не сделал дурного, а только беден, но твердо помнит, что бедность в глазах света – большой порок и ему как будто стыдно смотреть на людей. Понимая, как легко его обидеть, он старается избегать всех случаев, когда может встретиться опасность вынести унижение, делается робок, молчалив и скрытен. На вид это скромное, как будто безличное существо, а в сердце часто бушуют страсти – и какие еще страсти! Если бы кто-нибудь мог забраться в его голову и разобрать, какие мечты ее наполняют, чего бы он там ни нашел! Рядом с благородными, совершенно практическими идеями роятся бессмысленные, несбыточные фантазии, все перепутано, все смешано в общую груду, и основанием этой груды, этой массы мечтаний является удовлетворение самолюбия.
Такие люди могут принести обществу или огромную пользу, или огромный вред. Если они от природы честны и нравственно развиты, то самолюбие заставит их выполнить большие, замечательные дела, если же нет, то оно увлечет их в страшные преступления – либо то, либо другое, но в заурядной, обыденной среде они не останутся ни за что. Какая-нибудь выдающаяся крайность необходима, ожидается только черточка, которая наметит жизнь. Черточка проведена и – будущее решено.
Таков был Всеволод Александрович Алинский. Он обладал большими способностями, был в высшей степени честен и правдив, но, вместе с тем, скрытен, необщителен и вообще имел все недостатки, необходимо сопровождающие слишком сильно развитое, болезненное самолюбие. В университете он сошелся больше других с Павлом Неверовым, и неудивительно: веселый, откровенный Павел Аркадьевич, у которого душа всегда была нараспашку, представлялся самым подходящим товарищем для Алинского. С одной стороны, в высшей степени сообщительный, он готов был рассказать каждую мелочь из своей жизни – так как у него никогда секретов не имелось, а с другой, – не требовал никаких откровенностей от приятеля, никогда не анализировал его нравственно и всегда готов был говорить, лишь бы тот его слушал. Отчасти же добрый Павел имел в виду, сойдясь с Всеволодом, помогать Алинским так или иначе. Прямое пособие оказать было неудобно, но доставляемая работа и приглашения в деревню все-таки являлись деликатной косвенной помощью.
12
Милочка, голубушка (фр.)