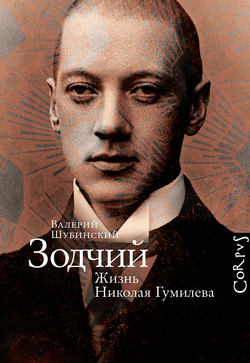Читать книгу Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава третья
Цветы императрицы
1
ОглавлениеДвадцать первого мая 1903 года Гумилев окончил шестой класс Тифлисской гимназии и получил отпускной билет в Рязанскую губернию до 1 сентября. Но обратно в Тифлис семья, видимо, уже не собиралась. Туберкулез у Дмитрия прошел; пришла пора возвращаться на север.
В середине лета Гумилев с матерью и А. С. Сверчковой (которая после десяти лет самостоятельной жизни как раз в это время воссоединилась с семьей отца) покидает Березки и уезжает в Царское Село. Как считается, это связано было с его (упомянутыми в предыдущей главе) пропагандистскими попытками. Степан Яковлевич и Дмитрий еще некоторое время оставались в Березках. Дмитрий Гумилев, окончивший гимназию, избрал военную карьеру[24], а Николай должен был еще два года проучиться в Царскосельской гимназии.
Гумилев-отец пишет прошение установленного образца и подписывает обязательства, содержащие и такой пункт:
Обязуюсь… внушать ему, чтобы при встрече с Государем Императором и членами Императорской Семьи останавливался и снимал фуражку, а при встрече с господином Министром Просвещения и товарищем его, попечителем учебного округа и помощником его, начальниками, почетными попечителями, преподавателями и воспитателями гимназии отдавал им должное почтение.
11 июля 1903 года директор Царскосельской гимназии Иннокентий Федорович Анненский подписывает распоряжение о принятии Николая Гумилева в гимназию – на положении интерна (пансионера), однако с разрешением жить дома. Последнее мотивировалось отсутствием мест в пансионе. Живет гимназист с родителями – в доме Полубояриновой, на углу Средней и Оранжерейной улиц.
Не стоит думать, что Николаевская Царскосельская гимназия (несмотря на статус императорской) была каким-то особо привилегированным или аристократическим учебным заведением. Вот свидетельство преподавателя Б. Б. Варнеке, относящееся как раз к началу XX века:
Состав учеников в Царскосельской гимназии был очень неодинаков. Маленький островок среди них составляли дети той литературной и служебной интеллигенции, которая жила в Царском из-за его якобы здорового климата. Но громадное большинство составляли природные царскоселы: в Царском жили гвардейцы и придворные: они своих детей отдавали не в гимназию, а в Лицей или Пажеский корпус, на долю гимназии оставались мелкие придворные чиновники и лакеи царя или великих князей.
Учебные успехи Гумилева были по-прежнему более чем скромны. В седьмом классе он получает лишь одну годовую четверку – по закону Божию. В трех четвертях он удостаивается хорошей отметки по русскому языку, но тройка с минусом в последней четверти портит дело; итог – годовая тройка. Никакие познания в российской словесности не могли перевесить “орфографический кретинизм” начинающего поэта. История и греческий (который преподает сам директор) – тройки, физика – тройка с минусом. Две четвертные двойки и годовая тройка по французскому. Наконец, двойки по математике и латыни… Экзаменов по этим предметам Гумилев сдать не смог и вновь остался на второй год[25].
Но и в следующем году Гумилев учится немногим лучше. Четверку он получает лишь по закону Божию, по латыни с трудом вытягивает на тройку с минусом, а по математике получает даже “два с минусом”. По всем остальным предметам – тройки. Возможно, именно в этот момент встает вопрос об отчислении из гимназии, и именно тогда директор, как утверждают, заступился за ученика, сказав: “Да, господа! Все это верно. Но ведь он пишет стихи!” Впрочем, в это время (весной 1905 года) положение самого Анненского было более чем шатко.
Поэзия из приватного увлечения становится главным фактором жизни Гумилева – а также тайной нитью, связывающей (пока неведомо для обоих) директора с семиклассником-двоечником. Но прежде чем говорить о директоре – немного о самой гимназии.
Здание Царскосельской гимназии. Открытка, 1900-е
Основана она была в 1870 году и располагалась в здании, первоначально построенном архитектором И. Монигетти в 1862–1869 годы для богадельни. В 1889 году архитектор Смирнов надстроил в здании гимназии третий этаж. Рядом находилась ратуша, построенная также Монигетти в 1862–1865 годы.
Эпоха Анненского в истории гимназии и его собственная педагогическая деятельность описываются мемуаристами очень по-разному. Существует немало апологетических отзывов. Эрих Голлербах, учившийся в реальном училище, понаслышке свидетельствует: Анненский “сумел внести в суть гимназической учебы нечто от Парнаса, и лучи его эллинизма убивали бациллы скуки. Из греческой грамматики он делал поэму, и затаив дыхание слушали гимназисты повесть о каких-то “придыхательных”. Как преподаватель древних языков, Беликов, Анненский, естественно, был сторонником классического образования, что плохо сочеталось с его довольно левыми политическими взглядами. По свидетельству преподавателя П. П. Митрохина, “при поддержке весьма немногих он имел мужество заявить, что система Толстого[26] при всех ее вольных и невольных грехах была попыткой европеизации русского образования”[27]. Митрохин не скупится на похвалы своему бывшему начальнику:
И ученики, и мы, преподаватели, любили его… за то, что он сумел вдохнуть в нас любовь к нашему делу и давал простор в проявлении наших сил и способностей… И. Ф. не приказывал, а лишь просил и советовал. И таково было его обаяние… что слушали и слушались все не только с вниманием, но и с воодушевлением. Его любили, и он нравился – и своей своеобразно красивой наружностью, и своей всегда деликатной, несколько старомодной манерой обращаться с людьми, и своей неизменной добротой к нашим нуждам и запросам… В конце концов вокруг И. Ф. сложилась целая школа педагогов и ученых.
Вдохновляющая картина! Но вот как описывает гимназию интересующей нас поры (1903–1905) учившийся там в то время поэт Дмитрий Кленовский:
В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно подхрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Марьян Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два, три в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном классе, последним доучивавшем отмененный уже о ту пору в классических гимназиях греческий язык… Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Пруткова с того известного “портрета”, каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться.
И это далеко не единственное свидетельство такого рода.
Истина лежит, вероятно, посередине. Великий поэт, крупный ученый, талантливый педагог, человек либеральных наклонностей и хороший администратор – такое сочетание качеств, скажем прямо, не кажется правдоподобным. И если преподавателям и ученикам жилось при Анненском вольготно, это не значит, что гимназия как учебное заведение функционировала безупречно. Разумеется, в гимназии были педагоги получше описанных Кленовским. Имена некоторых из них известны – математик и инспектор (завуч, по современной терминологии) И. М. Травчатов, латинист А. А. Мухин, учитель русского языка В. И. Орлов. Кто-то из них служил в гимназии и прежде, других привел Анненский.
Что мог знать в то время Николай Гумилев о директоре Царскосельской гимназии?
Что Иннокентию Федоровичу Анненскому под пятьдесят (родился 20 августа 1855 года). Что старший брат его, Николай Федорович, – известный общественный деятель и экономист, невестка (жена Н. Ф. Анненского), Александра Никитична, – детская писательница и переводчик. Что сам Анненский, закончив некогда историко-филологический факультет Петербургского университета, преподавал некоторое время в гимназии Гуревича, но ушел оттуда задолго до поступления в нее Гумилева; что он заведовал в Киеве четырехклассным училищем Павла Галагана, пока не был назначен директором гимназии – сперва 8-й, располагавшейся на Васильевском острове, потом, в 1896 году, Царскосельской.
Иннокентий Анненский. Фотография Л. Городецкого. Царское Село, 1900-е
Гимназисты могли знать, что Анненский женат и что у него есть взрослый сын. И конечно, Николай Гумилев не мог пройти мимо выполненнных директором гимназии переводов трагедий Еврипида, публиковавшихся начиная с 1894 года. Трагическая сложность, изломанность, парадоксальность характеров древнегреческого “декадента” (ибо именно так воспринимался автор “Медеи” афинской публикой времен Пелопоннесской войны) не могли быть не близки людям рубежа XIX–XX веков. Директор Царскосельской гимназии заставил древнего поэта говорить живым русским языком и гибким русским стихом, помнящим и Тютчева, и Некрасова, – сумев не пожертвовать при этом мощным и трагическим духом античности. Возможно, Гумилев прочитал и оригинальные трагедии Анненского “в античном духе” – “Меланиппа-философ” и “Царь Иксион”, напечатанные с полным именем автора в 1901–1902 годы.
Не мог не знать Гумилев и того, что памятник Пушкину-лицеисту, появившийся в 1899 году в садике за Знаменской церковью, поставлен во многом именно стараниями Анненского. Вполне вероятно, что он читал вышедшую отдельным изданием речь, произнесенную директором перед царскосельскими гимназистами 27 мая 1899 года:
Сто лет тому назад в Москве на Немецкой улице родился человек, которому суждено было прославить свою родину и стать ее славой.
Бог дал ему горячее и смелое сердце и дивный дар мелодией слов сладко волновать сердца. Жребий судил ему короткую и тревожную жизнь и ряд страданий. Сам он оставил миру труд, ценность которого неизмерима. Этого человека звали Александр Сергеевич Пушкин.
Анненский – одним из первых! – заговорил о Царском Селе не как об императорской резиденции, но как о “городе муз”, освященном тенью Пушкина.
Именно здесь, в этих гармонических чередованиях тени и блеска: лазури и золота; воды, зелени и мрамора; старины и жизни; в этом изящном сочетании природы с искусством Пушкин еще на пороге юношеского возраста мог найти все элементы той строгой красоты, которой он остался навсегда верен и в очертаниях образов, и в естественности переходов, и в изяществе контрастов (сравните их хотя бы с прославленными державинскими), и даже в строгости ритмов (например, в пятистопных ямбах “Бориса Годунова”, где однообразная и величавая плавность достигается строгим соблюдением диерезы после четвертого слога).
Этот очаровательный пассаж, где эффектные риторические конструкции вдруг заканчиваются профессиональным стиховедческим замечанием (заведомо малопонятным аудитории), во многом соотносится с тем образом незадачливого ученого и чудаковатого директора-“грека”, который рисует Кленовский. Но Гумилев и в первый год обучения в Царском Селе мог знать о своем директоре достаточно, чтобы преувеличенно прямая осанка этого немолодого человека в форменном мундире, с одутловатым лицом, “с болезненным румянцем на щеках”, временами отпускавшего угрюмые чиновничьи усики, не напоминала ему о Козьме Пруткове.
Но главного он не знал. Собственно, о самых существенных сторонах жизни Иннокентия Федоровича Анненского мы и сегодня знаем мало. Известно, что он, женившись двадцати четырех лет на почти 40-летней вдове, в зрелые годы полюбил Ольгу Хмара-Борщевскую, жену своего пасынка, и она ответила ему взаимностью, но от близости с ней Анненский сознательно отказался, не желая разрушать жизнь дорогих ему людей. Тристанов меч – образ, никогда не упоминающийся в поэзии Анненского, но присутствовавший в его жизни. И в этом (как и во всех остальных отношениях) он был полной противоположностью своего ученика. В течение четверти века, с перерывами, он писал стихи, не думая о публикации, пока в один прекрасный день не сжег их и не начал все сначала. Его подлинный творческий путь начался примерно в сорок четыре года (1899–1900 годами датируют исследователи большинство стихотворений книги “Тихие песни”) и продолжался десять лет. Этого хватило ему, чтобы стать первым русским поэтом ХХ века. Первым по времени – и одним из первых по рангу.
Дмитрий Коковцев, 1910-е
Поначалу, однако, судьба теснее свела Гумилева с другими царскосельскими стихотворцами, более близкими ему по возрасту и положению. Одним из них был его одноклассник Дмитрий Иванович Коковцев (также Коковцов; 1887–1918). Дебютировав в печати практически одновременно с Гумилевым (стихотворение “Памяти Жуковского”. “Новое время”, 23 апреля 1902), он позднее выпустил три книги стихов – “Сны на Севере” (1909), “Вечный поток” (1911) и “Скрипка ведьмы” (1913). По выходе последней книги против автора было возбуждено уголовное дело по обвинению в “оскорблении религиозного чувства” (вскоре, впрочем, закрытое). Возмущение цензоров вызвали, в частности, такие строки:
И, песни дикие слагая,
Пойдет монах к смиренным братьям.
И в церкви девочка нагая
Придет плясать перед распятьем.
В 1917–1918 годы, после октябрьского переворота и до закрытия оппозиционных газет, Коковцев выступал как публицист в изданиях кадетской направленности (“Речь”, “Век”), где напечатал и несколько литературно-критических статей. Умер он, как утверждает Кленовский, от холеры.
Коковцев примыкал к кругу чрезвычайно многочисленных (и напрочь забытых) стихотворцев-традиционалистов, вплоть до 1917 года (когда появились иные проблемы) продолжавших осуждать “декаданс”. При этом в собственном творчестве он был как раз “декадентом”, одним из (также очень многочисленных) подражателей Брюсова.
Гумилева сблизило с Коковцевым увлечение поэзией. Особенно выбирать ему не приходилось: юноше, читавшему непонятные для окружающих книги, знавшему непонятные слова – и притом по-отрочески угловатому и по-отрочески самолюбивому, трудно было найти себе друзей в Царском Селе. По свидетельству Ахматовой, “он был такой – гадкий утенок в глазах царскоселов. Отношение к нему было плохое среди сограждан, а они были на такой степени развития, что совершенно не понимали этого”[28]. Это относится и к знакомым родителей, и к одноклассникам, и к большинству учителей. По словам самого Гумилева (в разговоре с О. Мочаловой), соученики звали его bizarre, то есть “странный”. В своих неопубликованных мемуарах Н. Н. Пунин (учившийся на три, потом на два класса младше) описывает Гумилева гимназической поры так: “Некрасивый, со тщательно сделанным пробором в середине головы, он ходил всегда в мундире на белой подкладке, что считалось среди товарищей высшим шиком. Вокруг него шли слухи, гудела молва. Говорили о его дурном поведении, его странных стихах и странных вкусах”.
Начался второй круг жизни – и все преодоленное возвращается вновь: одиночество, бессилие, уязвимость. Набоб Красноглазый снова превращается в гадкого утенка, и снова, как в раннем детстве, надо прилагать усилия, чтобы отстоять свое место в мире. У Гумилева это выходило. Как рассказывал в 20-е годы Пунин Лукницкому,
и над Коковцевым тоже издевались товарищи. Но отношение товарищей к Гумилеву и к Коковцеву было совершенно разное. Коковцев был великовозрастным маменькиным сынком, страшным трусом, и товарищи издевались над ним по-гимназически – что-то вроде запихивания гнилых яблок в сумку, вот такое… Николая Степановича они боялись и никогда не осмелились бы сделать с ним что-то подобное, как-нибудь задеть его… Наоборот, к нему относились с великим уважением и только за глаза иронизировали над любопытной, вызвавшей их и удивление, и страх, и недоброжелательство “заморской штучкой” – Колей Гумилевым.
Это – гимназисты. Старшие же, по словам Н. Оцупа, “ставили в пример” Гумилеву Митеньку Коковцева и его стихи. Так Пушкину и Дельвигу здесь же, в Царском Селе, веком раньше ставили в пример Илличевского.
О “своеобразии” Коковцева любопытно рассказывает расположенный к нему Кленовский:
Когда на Страстной неделе ученики говели в круглой гимназической церкви, Коковцев, большеголовый, с характерными, какими-то средневековыми чертами лица, становился впереди всех, истово крестился, долго, никого не замечая, молился, а время от времени падал ниц, касаясь лбом земли, и лежал так долго-долго. В этом не было рисовки, религиозность не была тогда в моде.
Но если это и не было рисовкой, то было неадекватностью, болезненной экзальтацией.
Валентин Кривич, 1910-е
Так или иначе, одиночество в кругу товарищей тоже могло способствовать сближению, пусть недолгому, Гумилева и Коковцева. Отец Коковцева преподавал в гимназии, и в его доме устраивались литературные вечера. На них бывали Анненский и его сын – чиновник Министерства путей сообщения и поэт, писавший под псевдонимом Валентин Кривич (1880–1936). В своей вполне качественной и не уступавшей среднему уровню эпохи лирике Кривич подражал отчасти отцу, отчасти Брюсову, отчасти Бунину, но был великолепным рассказчиком и “щедрым Амфитрионом рукописных поэтов” (Голлербах). Читал ли Кривич свои стихи на вечерах у Коковцева, и главное – читал ли свои стихи Иннокентий Анненский? Едва ли. Слишком много слишком разных людей собиралось в этом доме. Список, приводимый Лукницким, удивителен: с одной стороны, публицист М. О. Меньшиков, который с полным правом мог бы сказать о себе словами депутата Пуришкевича – “правее меня только стенка”; с другой – молодой преподаватель Царскосельского реального училища, исследователь Некрасова В. Е. Евгеньев-Максимов, человек совершенно противоположных воззрений, который, по словам его ученика Э. Голлербаха, “был так взволнован революцией, что забывал надеть галстук и застегивать штаны”, или экономист-марксист М. Е. Туган-Барановский. Впрочем, в России во многих салонах встречались и “слуги царской власти, и недруги ее отчасти”, а в Царском Селе выбирать особенно не приходилось. Из писателей в вечерах, кроме Анненского, участвовали В. Микулич (Лидия Ивановна Веселитская), автор имевшей успех трилогии про “Мимочку” (образец дамской словесности того времени)[29], и Случевский. Едва ли последний часто бывал в доме Коковцева – редактор “Правительственного вестника”, член совета Министерства внутренних дел, член ученого комитета Министерства народного просвещения, гофмейстер двора Константин Константинович Случевский жил зимой в Петербурге, а летом – в своем имении “Уголок”. Но даже если он лишь раз удостоил этот царскосельский литературный салон своим визитом – об этом должно упомянуть. Случевский, уже старик (в 1904 году он умер 67 лет от роду), мог стать первым, наряду с Анненским, настоящим поэтом, встреченным Гумилевым в жизни. “Поэт противоречий”, как назвал его ценивший его и многому научившийся у него Брюсов, мистик и позитивист, хлебосольный хозяин, в чьем доме не один год по пятницам собирались столичные писатели, и мрачный мизантроп, он некогда бросил одинокий вызов слащаво-мещанскому вкусу своей эпохи. Его самое страшное и самое знаменитое стихотворение – “После казни в Женеве”, аукается с самым знаменитым стихотворением Гумилева:
Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И унесли, и площадь поливали.
Сравните:
…Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.
В красной рубахе, с лицом как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
После смерти старого поэта кружок “Вечера Случевского” продолжал собираться до самой революции, и Гумилев не раз бывал там. Но это было уже в годы его профессиональной литературной работы и профессионального признания. Пока же – на домашних вечерах у Коковцева – его “декадентские” стихи не имели успеха. Хозяина дома они просто шокировали.
Кроме Коковцева, мы знаем имена еще двух одноклассников, с которыми Гумилев приятельствовал. Один – уже поминавшийся Владимир Михайлоич Дешевов (1889–1955), позднее композитор и дирижер, работавший в послереволюционное время в Крыму и в Ленинграде, второй – Мариан Марианович Згоржельский, сын “полусумасшедшего Марьяна Генриховича”, так желчно описанного Кленовским. Згоржельский застрелился в 1909 году, и его памяти посвящено, по свидетельству Ахматовой, стихотворение “Товарищ”:
Старый товарищ, древний ловчий,
Снова встаешь ты с ночного дна,
Тигра смелее, барса ловче,
Сильнее грузного слона.
Помню, все помню; как забуду
Рыжие кудри, крепость рук,
Меч твой, вносивший гибель всюду,
Из рога турьего твой лук?
24
Некоторое время учился в Морском кадетском корпусе (как указывает В. Срезневская), затем в Николаевском кавалерийском училище (1906); сдал офицерский экзамен при Павловском военном училище; служил в лейб-гвардии стрелком батальоне и 147-м пехотном самарском полку. С 1910 г. в запасе (см.: Из послужного списка Дмитрия Степановича Гумилева. ЦГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 176788; опубликовано в статье И. А. Курляндского “Поэт и Воин” в кн.: Николай Гумилев. Исследования. Материалы…”).
25
Архив П. Н. Лукницкого в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома).
26
Граф Д. А. Толстой (1823–1889), министр народного просвещения в 1866–1880 гг., насаждавший классическое образование.
27
Будущего композитора В. Дешевова (одно время приятеля Гумилева), перешедшего в реальное училище, Анненский при встрече упрекал за то, что тот “променял искусство на ремесло”.
28
Многие последующие высказывания Ахматовой перекликаются с этими словами. Ср.: “Темное время – этот царскосельский период… Потому что царскоселы – довольно звероподобные люди…”
29
В. Веселитской-Микулич посвящены стихи Анненского про Царское Село:
Там на портретах строги лица,
И тонок там туман седой,
Великолепье небылицы
Там нежно веет резедой.