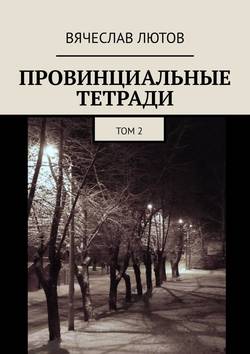Читать книгу Провинциальные тетради. Том 2 - Вячеслав Лютов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЖАЖДА ОДИНОЧЕСТВА
Гоголь и его Апокалипсис (1996)
ОглавлениеИ чем больше молился несчастный – кому – неизвестно…
Тем больше встречал он эти же рыла.
Он сошел с ума. Не было болезни. Но он уморил себя голодом.
Застыв, обледенев от ужаса…
В. Розанов. Апокалиптика русской литературы.
* * *
…На титульном листе трагедии Гоголя следовало бы написать: «Хочешь быть счастливым – будь одиноким». Я бы, наверное, так и сделал, если бы не печаль Розанова о человеке, который, глядя на окружающие его рыла, сошел с ума от ужаса. Конечно, можно чувствовать себя Аполлоном в своей комнате, увешанной знаменитыми гравюрами Гойи; можно мнить себя высоконравственным человеком рядом с иллюстрациями Бердслея к «Лисистрате». Счастье – какое счастье, что ты не такой, как они! Ты один – красота, гармония, истина.
И тебе никто не нужен.
До той поры, пока «рыла и хари» не начнут въедаться в тебя, и однажды утром, посмотрев в зеркало, ты вдруг увидишь, что краешек твоих губ точь-в-точь такой же, как у того уродца, что висит в раме возле двери; до тех пор, пока не спросишь риторически: Разве и моя рожа крива? – да, и твоя тоже.
И рай одиночества мгновенно обернется адом одиночества.
Но будет уже поздно, и ты застынешь, обледенев от ужаса…
Возможно, что с Гоголем случилось именно так.
* * *
Когда говорят о трагедии Гоголя, то к разговору неизбежно примешивается жалость – как жестоко обошлась судьба с ним, как она ужасна! Вся русская критика после смерти Гоголя его жалела, переживала и пережевывала его кризис, печалилась о том, что гениальный художник уступил место слабому и ничтожному мыслителю, что Гоголь очень себя скомпрометировал и «уронил в глазах прогрессивной общественности». Особенно зол был на Гоголя Белинский.
Жалела и русская философия – Гоголь не прочитан, не понят, его проглядели, как писал о том Бердяев. Жалел и Розанов, который всю жизнь с этим самым Гоголем боролся, – и на излете дней своих в сердцах воскликнут: «Ты победил, ужасный хохол!»
Советское литературоведение печалилось о том, что Гоголь так и не завершил второй том «Мертвых душ», бросив его в печку. И ведь правильно сделал – это была не книга, а какие-то слабые поползновения, претензии на книгу.
Наконец, обыкновенный обыватель чаще всего смахивает слезу при рассказе о том, как Гоголь себя голодом уморил и помер…
И во всей этой сентиментальности теряется главное – Гоголь сам желал такой участи, сам лелеял и культивировал свое одиночество. Он сам выстроил свою трагедию, разыграл свои похороны еще в 1845 году, когда написал «Завещание». Он сам перессорил себя со всеми. Он сам выжег из себя не только любовь, но даже элементарное сексуальное влечение. Он сам лишил себя живой жизни с ее страстями, авантюрами, безрассудством. Он не держал в руках громокипящего кубка, зато колол и подавал к столу русской мысли лед.
Он сам виноват в той трагедии, какая с ним случилась; стоит ли его жалеть?..
* * *
В гимназии Гоголя прозвали таинственный карла – и, надо сказать, очень удачно. Мания таинственности у него сохранится на всю жизнь – и будет причиной того, что Гоголя «не поймут». Что же касается «карлы» – Гоголь был своеобразен на вид, но это не значит, что он был красив. Когда читаешь воспоминания о нем, блестяще собранные Вересаевым, то невольно складывается впечатление, что Гоголь-отрок был клоуном – словно родился лишь затем, чтобы служить объектом насмешек.
Ничего; в скором времени он припомнит эти насмешки…
Впрочем, в доброй половине насмешек виноват опять же наш герой. Так, вспоминают, что он был неряшливого вида, особенно в младших классах, его карманы были набиты сладостями – этой мании «пряника в кармане» Гоголь отвел место и в жизнеописании Павлуши Чичикова. На детей-аристократов, как вспоминает Любич-Романович, он смотрел букою, часто забирался в угол – там покойнее…
Зато Гоголь был занимательным артистом: не только врал замечательно и правдоподобно (особый успех имел его вид сумасшедшего), но и играл на сцене. Играл, правда, не Гамлета и не Дон-Жуана, не тянул и на модного волокиту во французском стиле, – а стариков и старух, которые вот-вот развалятся, так и не дойдя до середины сцены. Это было смешно – и только.
Любич-Романович вспоминает: «Вообще, Гоголь шел наперекор всем стихиям… В церкви, например, Гоголь никогда не крестился и не клал перед алтарем поклонов… Ходил он по улицам левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожими… Мебель в комнате ставил в углах и посередине…» Большой оригинал, одним словом.
А вот и первое пророческое признание. Гоголь часто подражал животным: то козлом кричит, то поет петухом среди ночи, то хрюкает свиньей. «И когда его спрашивали, почему он подражает крикам животных, то он отвечал: Я предпочитаю быть один в обществе свиней, чем среди людей…»
Что ж, это желание сбылось – и Гоголь окружил себя такими чудовищами, такой мертвечиной что и вправду было бы счастьем сменить дом городничего на хлев.
Толстой когда-то признавался, что очень любит свою Наташу Ростову; Пушкин – Татьяну Ларину; Гончаров – Ольгу Ильинскую. А кого мог любить Гоголь? Из кого выбирать: то старики-старухи, то мужики-бабы, то бесполые уродцы, которыми напичканы «Ревизор» и «Мертвые души»?
На кого ни взглянет Гоголь, как тут же появляется неумытое рыло. Неужели все были так плохи?
Нет. Биографы говорят, что искренность и участие в судьбе друзей по гимназии у Гоголя оставались до самого конца. Правда, один раз, если верить слухам, Гоголю нанесли жестокий удар: как-то, уже после выхода «Переписки с друзхьями», он пришел к своему старому другу, «по привычке», но тот его принять нарочито отказался. Говорят, что Гоголь, не в силах сдержаться, заплакал тут же, у двери…
Впрочем, отрочество пока шло своим чередом. Гоголь хоть и был объектом насмешек, но на них не обижался (или делал вид), не отвечал и на оскорбления, считая это для себя унижением. Часто не договаривал фраз, за что получил прозвище «мертвой мысли»… Все это мелочи – но ничего крупного, как замечает о том Вересаев, в жизни Гоголя и не было.
Заметим и еще одну мелочь. За гимназистками Гоголь не бегал…
* * *
Учитель Кулжинский вспоминает: «Гоголь очень плохо учился; кончил курс, но ничему, даже правописанию русскому, не хотел научиться; не знал языков, и так выступил на поприще русской литературы».
Из грязи – в князи…
Никто тогда и не предполагал, что из белокурого и забавного нежинского гимназиста выйдет Гоголь; он, возможно, и сам не ожидал, но все же Петербург готовился покорять основательно.
Прежде всего новым костюмом, который велел шить по последней столичной моде, и «Гансом Кюхельгартеном», некоей идиллией в картинах, за которой не видно ничего, кроме ученического виршеплетства (ее Гоголь сжег сразу же после первой критики – видимо, существует особая страсть к сожжению своих рукописей; вот только после Гоголя это уже не ново и не модно).
Первым завоеванием стал отмороженный нос, и Гоголю, вкусившему питерский климат, пришлось несколько дней проваляться в постели.
Однако не будем обижать Гоголя – с кем не бывает. И первые шаги его на петербургском поприще известны, что нет смысла их пересказывать. Разве что упомянуть знаменитый визит к Пушкину, когда слуга поэта ошарашил Гоголя тем, что Великий Пушкин, оказывается, вместо того, чтобы вдохновенно писать стихи, всю ночь напролет не менее вдохновенно играл в карты! Это было ударом, хотя и гораздо меньшим, чем нанес сам Петербург.
Гоголь, в отличие от многих молодых людей, которые из заплеванной провинции попали в столицу и понеслись сломя голову по всем ее злачным и не злачным местам, просто сидел дома. Он не таскался по борделям и не напивался пьян, как это было когда-то с юным Пушкиным. Его приятель Данилевский, напротив, усидеть не мог – его не пугало, что, например, цены весьма и весьма кусаются.
Петербург оказался совсем не тем, каким думал его увидеть Гоголь. Наш герой был во многом разочарован. Возможно, Петербург в себе перемешал магические заклинания влюбленности и разочарования, что даже проклиная этот город, не можешь от него отказаться.
Нам же важно заметить: петербургские знакомства, «дружба», привязанности оказались для Гоголя недолговечными и не такими ценными, как те, в которых было воспоминание нежинской юности. Та же участь в жизни Гоголя была отведена и Москве. Ни Аксаков, ни Плетнев, ни Анненков, ни Погодин, которые искренне верили, что они дружны с ним, так никогда и не были им любимы. Это была дружба без любви, подобная той, что связывала, к примеру, Онегина и Ленского. И когда Гоголь в одном из своих писем к Аксаковым признался, что «никогда не любил их той любовью, какой они его», – это было достаточно жестоко, хотя вполне предсказуемо…
Даже с тем человеком, какого Гоголь боготворил, – с Пушкиным – у него особой дружбы не было. А потому те знаменитые истории с передачами сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ» кажутся именно легендами, а не историческим фактом, легендами, сочиненными самим Гоголем.
Пушкин был для Гоголя идолом, он был тем, который все знает и все понимает.
И тем страшнее парадокс русской литературы, что именно Гоголь совершенно перечеркнул пушкинскую эпоху. Это было затмение солнца. Светлые и живые пушкинские образы одним ударом были выбиты из русской головы и заменены мертвыми, но чрезвычайно запоминающимися карикатурами.
Но это – потом.
А пока Гоголь где-то достал рекомендательное письмо к Жуковскому – неплохое начало карьеры. А пока Гоголь секретарствовал по разным департаментам и службам, причем, переписывал и перекладывал бумаги намного хуже своего Акакия Акакиевича, а потому нигде долго не задерживался. И когда в «Авторской исповеди» Гоголь напишет, что «мысль о службе его никогда не покидала» на каком бы то ни было месте или должности, то он, должно быть очень ловко слукавил.
Министерская служба требует министерского же послушания, канона, правила, чего в характере Гоголя нет и никогда не было.
Гоголь делает выбор.
Первый шаг к одиночеству в том, что Гоголь решил стать писателем; и в этом повинен не столько писательский зуд, который был у Гоголя в гимназии и заставлял его сочинительствовать под партой, это была возможность свободы.
Впрочем, никем иным Гоголь и не мог быть; все остальное, что не относилось к писательству, делалось гоголем из рук вон плохо – он был плохим секретарем, плохим профессором, плохим любым работником; даже плохим мыслителем – слабым, как говорил Достоевский. Но то, что ему удавалось лучше всего – его произведения – оказалось ужасно плохо для России.
«Неужели и моя рожа крива?» – крива, крива…
* * *
Дотошный читатель гоголевских писем воскликнет: «Автор не прав! Он говорит, что Гоголь никого не любил и ни в кого не влюблялся. А ведь женщина все же была!» И приведет в пример письмо Гоголя к матери, где Гоголь писал о Ней, Незнакомке, Ангеле. «Поразительное блистание лица», «глаза, быстро пронзающие душу», «их жгучее сияние», «божество, облеченное слегка в человеческие страсти», «взглянуть на нее еще раз!..»
Хорош портрет, не так ли? И это у Гоголя, который не упустит даже пылинки на бекеше! А каков цвет глаз у героини? А волосы: длинные ли, короткие? А кожа: светлая, смуглая? А походка? А жесты? А стан? Куда это все подевалось? Друг Гоголя Данилевский, с кем он жил тогда на одной квартире, что-то не припоминает никаких жгучих страстей. К тому же Гоголь потратил мамины деньги – больше тысячи – нужно же было как-то выкручиваться. И в Любек поехал неизвестно зачем.
Впрочем, стоит ли об этом письме? – стоит, и очень стоит: это единственное письмо, в котором Гоголь признается, что страстно влюблен в кого-то (пусть даже этот человек и вымышлен). Если и говорить о дикости гоголевского одиночества – то она в исключении из жизни любви и страсти.
Почему в жизни Гоголя не было женщин? – это сегодня, на излете ХХ века, самый интересный вопрос в силу своей «желтизны» и «жарености». И уж коль скоро мы заговорили об этом, то оставим на время первый шаг к одиночеству – писательство, и примемся за второй – комплекс Гоголя. В нашем отравленном сексуальной революцией сознании ныне укоренилось четыре обвинения Гоголю в разных патологиях (спасибо газете «Спид-Инфо» за это) – некрофилия, гомосексуализм, импотенция и онанизм.
О «половой загадке Гоголя» заговорил еще Розанов, и он же намекнул: де-мол, у Гоголя в сочинениях нет ни одной живой девушки, а если и есть, то с какими-нибудь непременными уродствами. Зато покойницы – сплошь красавицы. На основании этого делается «розановский» вывод: если Гоголь так живописует покойниц – значит, у него влечение к трупам. Перенесите художественное воображение философа в реальную жизнь – и мы получим Гоголя-монстра, рыскающего по моргу или разрывающему на кладбище могилы.
Этого, естественно, в реальности не было.
Было другое – два страха. Один – страх смерти, страх перед всем тем, что ее окружает, что является ее атрибутикой, пусть подчас и косвенной. Второй – страх перед человеком, который может узнать некую гоголевскую тайну и огласить ее.
Такой тайной, как говорят, был гомосексуализм. Большую ценность для сторонников этого порока Гоголя представляют отношения писателя с художником А. А. Ивановым, который в начале 1840-х годов жил в Риме, как и Гоголь. По воспоминаниям, они часто запирались ото всех, никого не посвящали в свои планы (это, кстати, объясняется гораздо прозаичнее: Иванов писал с Гоголя эскизы, а Гоголь думал, как бы ему войти в «Явление Мессии» на правах персонажа). Их называли «неразлучной парочкой» – лакомый кусочек для желтой прессы.
Мы же помним: Гоголь никогда никого не посвящал в свои планы и тайны; он даже не позволял себе откровенностей по поводу произведений, а уж личная жизнь, как, кстати, об этом свидетельствуют почти все биографа, оставалась совершенно закрытой и недоступной.
Гоголь не мог не понимать обычной вещи: тайна двоих по сути перестает быть тайной.
Нужно еще учесть, что Гоголь со времен столиц предпочитал не заводить долгой дружбы, и даже близкий круг, которым в свое время гордился Анненков, он держал на расстоянии.
А потому, сошедшись с Ивановым, он не сошелся с Ивановым.
Второе лицо, каким бы оно ни было, несло прямую угрозу гоголевскому одиночеству.
Распространимся на счет распространенного – был ли Гоголь импотентом? Ни жены, ни детей, ни страстей, ни мимолетных увлечений, ни походов в бордель, ни вечеринок с актрисками, ни забав с крестьянками – какое-то омертвение жизненных тканей. Сам Гоголь как-то рассказывал: он проходил мимо одного дома и «случайно заглянул в окошко» – там напомаженные блудницы молились вместе со священником. Вся картина произвела на Гоголя такое отвратительное впечатление, что он ушел точно ошпаренный. Тут любое влечение сойдет на нет…
Вроде бы, молва права.
Если бы не один эпизод. Некоторое время, в конце 1840-х годов, он ухаживал за молодой графиней Вильегорской, привязался к ней и сделал предложение… Так вот, я не уверен, что такое предложение психологически может сделать хотя бы один импотент, если, конечно, это брак не по контракту и если эта не «слишком поздняя любовь»; в лучшем случае, он будет разыгрывать закоренелого холостяка… Гоголь же оправдывал свое предложение одиночеством и желанием создать семью. У человека, больного импотенцией, вряд ли будут подобные иллюзии…
Как-то в одном филологическом «кухонном» разговоре прозвучало: все поступки Гоголя можно объяснить одним словом – онанизм. Зигмунд Фрейд явно надежно укоренился в нашем сознании. И если первые три обвинения мы могли бы списать «за недостаточностью улик», то последнее действительно могло иметь место. Это порок частного порядка, причем, один из тех, что не бросается в глаза и не требует партнера. Возможно, он лучше всего подходил Гоголю, оставляя его право на одиночество неприкосновенным. Также Гоголю могло казаться, что он, в принципе, самодостаточен и ему никто не нужен.
Истоки – быть может, в комплексе неполноценности, чуть ли не в хилости и слабости его рождения; возможно, был какой-нибудь «неудачный опыт» или еще что-нибудь в этом роде.
Смущает другое.
Писатель, как никто другой, достраивает в своих произведениях то, чего ему не хватает в реальной жизни, как это было, к примеру, со Стендалем, тоже обделенным ласками и страстями. А потому личные комплексы неизбежно переходят в ткань художественных произведений. Теперь вспомним «портрет незнакомки». Вы могли бы с него онанировать? Или с прозрачной и светящейся утопленницы, или со Сквозник-Дмухановской дочки или жены, о которых только-то и сказано, что они «не дурны»? или с Коробочки? Или со старушки Пульхерии?
Есть, правда, черноокая панночка; есть «головка Психеи» у художника Черткова.
Если говорить грубо, то гоголевского воображения хватало лишь на карикатуры и вещи; ему было доступно тщательно описать, к примеру, диван, нежели человека, сидящего на этом диване, и уж тем более женщину, лежащую на нем. Все его поэтически-восторженные женские описания настолько клишированы, что омертвляют все, к чему бы он не прикасался.
И когда Розанов говорил о том, что трагедия Гоголя кроется в тщетности попыток «изобразить душу живую» и что в Гоголе есть «половая загадка», то ему оставалось договорить одно:
Гоголевский герой есть человек без похоти…
* * *
На этом безжизненном фоне рождались гениальные безжизненные произведения – «Ревизор» и «Мертвые души». Одиночество же, уже вкусив жертвенный дым личной жизни Гоголя, требовало новых витков и новых сценариев для будущей драмы.
С точки зрения любого обывателя, даже, к примеру, безвыездно сидящего в какой-нибудь богом забытой деревушке, жизнь Гоголя, личная жизнь, была безнадежно испорчена – скучна. Любой, даже самый бестолковый обыватель живет по бальзаковской формуле: «поэт должен раз в месяц устраивать оргию и возлияния в честь Бахуса». Это, конечно, тоже может «приесться» – зато будет что вспомнить на свалке…
Гоголь же говорил о беспроисшественности своей жизни. Где бы он ни был, куда бы ни уезжал – с ним ничего особенного не происходило, суть не менялась…
Впрочем, о перемене мест.
Новым даром одиночеству стало бегство Гоголя из России. В. Набоков совершенно справедливо замечает: «Чтобы писать о России, Гоголю необходимо было уехать из России». Дома – слишком много людей, слишком много глаз, слишком велик риск, что тебя «раскрутят», выпытают твою тайну. В Италии, на руинах истории, – хорошо; встретится пара-трешка русских – и достаточно. Писать письма тем же Аксаковым, к примеру, было намного покойнее, нежели общаться с ними воочию.
Гоголь не был в Италии один – но у него было больше возможностей быть одному.
Все приезды в Россию оборачивались, как правило, болезненными состояниями, нервозностью, капризами, суматохой – и Гоголь срочно собирал вещи.
Первый том «Мертвых душ» был уже почти завершен, когда во время болезни, в 1840-м году, Гоголю открылись видения, которые он принял за божественные откровения. В духовном мире Гоголя, который все же был не так плох, как оно может показаться, наметились серьезные перемены, во многом перечеркнувшие прежнего Гоголя, поставившие его, по словам Анненкова, между двух миров.
Единственное, чего эти перемены не коснулись, было одиночество.
Теперь оно канонизировалось.
* * *
«Меня теперь нужно беречь и лелеять не для меня, нет…» «Теперь ты должен слушать мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова. Властью высшей облечено ныне мое слово», – так отписывал Гоголь своим друзьям в начале 40-х годов.
Тот же Анненков в своих воспоминаниях «Гоголь в Риме летом 1841 года» пишет о раздражающем «тоне проповедника», каким все чаще говорил Гоголь.
Мания величия?
Друзья Гоголя недоумевали – именно на нее и похоже.
Суть в том, что Гоголь писал и считал так совершенно искренне – он думал, что если человеку вдруг открылась Божественная Премудрость, если вдруг разом в его глазах осветился и освятился путь человека, то он не может держать это в себе, не может эту истину присвоить и спрятать в стол. Гоголь совершенно искренне верил, что исцеление его от тяжелой болезни – акт чудесный, это предзнаменование. Гоголь уверовал, что ему открылось назначение человека – и теперь желал его открыть другим.
Появляются первые очертания будущих «Выбранных мест из переписки с друзьями», книги, явившей России и личный, и социальный, и религиозный кризис Гоголя.
* * *
Страх смерти заставил Гоголя написать в 1845 году Завещание, которое впоследствии так неудачно открыло «Переписку».
Его одиночество вдруг засквозило в старом-новом варианте – в особничестве: я не такой, я другой. Пробежим глазами по пунктам: «1. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения… Предать же тело мое земле, не разбирая места… 2. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника… 3. Завещаю вообще никому оплакивать меня…» и так далее.
Конец завещания «еще шибче»: «Завещание мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения, никто не сделался бы передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу».
Откуда такая исключительность?! «Гоголь свихнулся!» – резонно воскликнули современники, как когда-то гимназисты во время гоголевского розыгрыша.
Гоголь, сам того не замечая, в пафосе самоуничижения и смирения поднимает себя на небывалую высоту. А требование напечатать завещание «во всех журналах и ведомостях»? Даже царские указы не были обязательны для всех изданий. А тут какой-то беллетрист Гоголь…
И если говорить о трагедии позднего Гоголя, о печальной участи его «Переписки с друзьями» – то именно в завещании был явлен фарс, не осознанный, но все же фарс.
«Рожи» у современников все же были прямее, нежели «кривой лик» Гоголя…
Был у Гоголя еще один страх – перед непониманием. Это было подобно мании преследования. Гоголь пишет «Театральный разъезд» в довесок к «Ревизору»; пишет «Четыре письма по поводу «Мертвых душ»; пишет «Авторскую исповедь» в оправдание «Переписки».
«Меня не понимают», – Гоголь начинает пожинать плоды своего одиночества.
* * *
Если когда-то Гоголь, лепя своих уродцев, одаривал Россию «исключительным чувством зла», разлитым по его героям, то теперь в «озаренном божественным светом Гоголе» в самом кипела злоба. Пожалуй, но в одном русском писателе не было столь нарочитого пренебрежения к людям, как в Гоголе времен «Переписки с друзьями». Я удивляюсь терпению его друзей, и все же прав был тот приятель, который его не принял.
Гоголь мог позволить себе самые издевательские капризы. На него трудно было угодить: то, к примеру, чай горячий, то холодный, то стакан неполный, то, напротив, «с горкой». Если ему кто-то не нравился, он мог преспокойно испортить вечер. Мог требовать для себя исключительного обеда. Мог прийти в гости и весь вечер продремать, не сказав ни одного «писательского» слова. Часто брюзжал, букничал. Даже недалекий Панаев, и тот однажды высказался: «После ухода Гоголя становилось как-то легче дышать».
Такое ощущение, что Гоголь сознательно сжигал за собой мосты, рушил связи, портил отношения, губил дружбу, нимало не заботясь о тех, кто относился к нему с искренней привязанностью.
Не удержался Гоголь и в «Переписке» – публично оскорбил Погодина. Тот, конечно, сам был виноват, что без разрешения взял да тиснул гоголевский портрет работы Иванова еще в 1843 году («Переписка» вышла в 1848-м). Гоголь не забыл… Но сведение счетов в книге, написанной, по словам автора, «по боязни смерти» и насквозь пропитанной Христовыми заповедями, – это выглядит не просто плохо…
Чуть дальше Гоголь напишет: «Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям».
«Приобрети любовь к Погодину» – добавим мы…
* * *
«Как же так случилось, что на меня обиделись все до единого в России?» – спрашивал Гоголь Белинского.
Ответом было знаменитое письмо…
* * *
После краха «Выбранных мест» Гоголь добился одиночества совершенно. Растеряв все опоры в жизни, Гоголь запаниковал. Это был род особой душевной смуты. При всех своих комплексах, гнетущих чертах характера Гоголю оставался единственный выход – искать спасения в духовном делании, в религиозном сознании.
Духовный путь Гоголя есть сплошной хаос, агония, во всем – надрыв и остервенение.
Так, к примеру, гоголевская религиозная библиотека представляет собой полное смешение православных и католических источников – он не видит между ними разницы, и даже говорит, что «наша религия и католическая суть одно и то же». Он делает всевозможные выписки из Святых Отцов, это перемежается с Месяцесловом, тут же «Литургия Иоанна Златоуста», тут же евангельские тексты. Попадется ли ему завет подвижников: «Не иметь ничего в миру», как Гоголь сразу же запирается ото всех, смотрит на мир и людей с каким-то необъяснимым презрением, но в торжестве аскезы. Но как только вычитает у ап. Павла, что «вера без дел мертва», тотчас принимается за программу исправления человека, начинает давать советы, как «обустроить Россию» – вся «Переписка» его об этом; призрак общественного блага «зависает» над ней, как писал о том Г. Флоровский. Суровый аскетизм и воля к общественному действию соседствуют в нем, нимало не беспокоясь о том, что это суть дело антихристово.
Одиночество Гоголя принимает обманчивые формы монашества, и обманчивые потому, что Гоголь пришел к Христову братству не разумом, и даже не сердцем, а обидой. Он слишком жадными глотками пил одиночество – и ему не хватило воздуха.
«У Гоголя была опасная теория молитвы» – он, как вспоминают современники, в молитве доходил до крайних степеней экзальтации, не замечал ничего вокруг, мир для него переставал существовать; был бы дурак, так лоб бы расшиб… Молитва приводила его в психическое возбуждение, подобно наркотикам.
В одном из писем он с гордостью пишет, что не пропустил ни одной обедни, отстояв все службы с начала до конца. Возникает подмена – у Гоголя не культ Христа, а культ культа…
Замечали за ним и другое – бывало, ни с того ни с сего он начинает вести богохульные речи, надсмехаться над попами, да и вообще над религиозным чувством человека. Он становится похож на юродивого. Если, конечно, источник верен, то мы получаем крайне неприятное завершение гоголевской клоунады…
Гоголь не может писать, сжигает второй том – Павлуша Чичиков напрасно «жаждет» исправления, поскольку для этого нужно было исправиться самому Гоголю. Внутренних сил его не хватает – и Гоголь едет в Иерусалим поклониться Святым местам. Голгофа нужна ему, как допинг…
Паломничество не принесло желаемого облегчения, напротив, даже разочаровало.
Гоголь ведет переписку с о. Матвеем Константиновским, человеком сильной веры, подвижником, не принимающим никаких компромиссов между грешным миром и духом христианства.
Посещает Гоголь и Оптину Пустынь – счастливые и светлые минуты перед предстоящей катастрофой.
Наконец, незадолго до смерти спешит к юродивому старичку Корейше в надежде, что тот исцелит его…
Во всем смута, хаос, судорожность.
«В нем была внутренняя скверна, и я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином», – говорил о. Матвей, потребовавший от Гоголя отречения от всего. Говорят, что о. Матвей «сгубил» Гоголя – но ничем иным, кроме полного отречения, гоголевское одиночество и не вылечить.
Возможно, Гоголь и сам это понимал, а потому переживал ужасно. Он не просто изморил себя постом – он словно выкручивал душу; он морил те рыла и те рыльца, которые накопились в нем…
«Будьте не мертвые, а живые души», – оставил потомкам Гоголь в своем духовном завещании, отправил «почтой до востребования».
Интересно, справлялся ли о ней кто-нибудь на излете ХХ века?..
1996