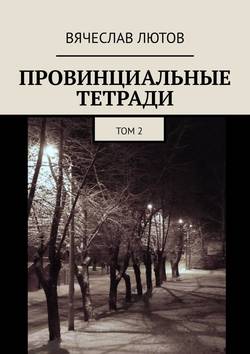Читать книгу Провинциальные тетради. Том 2 - Вячеслав Лютов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
О ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ
К определению понятия (1995)
ОглавлениеГлаз видит больше,
Чем сердце знает.
У. Блейк. Видения дщерей Альбиона
* * *
Прежде несколько разговоров, что позволительно для дневника, где только-только очерчивается тематический абрис.
Не так давно мне читала свои новые стихи А. К. По своей неосторожности, да из-за нарушения клятвы ничего не говорить о стихах своих друзей, я обронил: «философичная лирика»… На меня обиделись – пришлось оговориться, что, мол, я – дурак, и ничего не смыслю в высокой поэзии, «чистой поэзии», по выражению Стефана Малларме (пусть простит классик – я от него не в восторге).
А спор о философской лирике тогда не вышел.
Помог мой очень хороший друг, поэт, К. Бурков – на кухне, за чаем и водочкой. Когда-то, давным-давно, я говорил, что стихов его – не понимаю; мне бы что-нибудь попроще, не столь метаметафоричное, не с таким «загрузом» образности. Костя, наверное, до сих пор не знает, люблю я его стихи или нет. Я, впрочем, и сам не знаю. Писать его языком – упаси меня Бог.
Но вот теперь приходится ловить себя на мысли, что его образы четко отпечатаны в памяти, узаконены ею. Если это и была символическая игра мысле-образами, то игра предельна честная, азартная – в лучшем смысле этого слова (играть, чтобы убить время, – глупо; нужно играть, создавая время).
Мы тогда говорили о поэзии вообще. О философской лирике, в частности. Но толком ничего не сказали…
Почти год тому назад разговаривал с еще одним поэтом, Дм. Бавильским – нет, разговор не свелся к формальному методу (как я думал накануне), но совершенно к иной печали. «Литература – порождение больных людей», – звучало тогда. – Поэт своими комплексами, психиатрическими отклонениями, социальной уродливостью и оторванностью, мысями-чудовищами, рожденными от сна разума награждает читателя (возможно, не менее больного).
Метод современной литературы – психиатризм. А «здоровые писатели» делают деньги. О философской лирике говорить не пришлось…
Наконец, у Ал. С. Гришина, моего преподавателя.
– Вот вы пытаетесь создать жанр лирики. Но мы сами-то лирику совершенно не знаем. К примеру, что такое любовная лирика? Назовите ее специфические черты?
– …
– Вот то-то и оно…
Нужно заново писать теорию лирики? Нужно. Я бы и взялся, только времени нет. Что такое философская лирика? Бес ее знает…
И еще – исходный случай.
В моей деревне до поэзии дела нет – как-то она не сильно вяжется с кормлением свиней, свинской обстановкой и веселого свинства по выходным. И вдруг: «А как писать стихи? Я хочу выразить мысль, но не могу добиться целостности. Вот, послушай…»
Ах, как зашебуршало чувство мэтра! Но разум ответил: не знаю…
* * *
«Я никакой новой науки не собирался проповедовать» – писал как-то Гоголь; и вслед за ним можно написать: зачем нужно новое слово, когда смысл старого непонятен? Жанр философской лирики слишком стар, но именно это-то и притягивает, как древняя рукопись в пыльном чулане. Нужно сдуть с нее слой пыли.
В свое время я был поражен изяществом мысли Ф. Де Соссюра, знаменитого лингвиста, который буквально вырезал из языкознания все лишнее – социологию, психологию, феноменологию и т. д. – и получил предмет в чистом его виде. Это был частный опыт частного человека. Мне в моих заметках все же позволено делать то, что считаю нужным, даже если это и ненормально.
Необходимость метода Соссюра я понял в разговоре с преподавателем. Ал. Сергеевич попросил указать в моем сборнике то стихотворение, какое я считаю философской лирикой. Я указал на цикл «Илия», на непритязательный разговор двух соседок: богатой и бедной.
– Разве это философское? Нет, это – чистая этика: злое богатство противопоставлено доброй бедности…
– А. С., но если мы будем определять лирику по ее проблематике, то мы сотворим огромную и уродливую классификацию: этическая лирика, антропологическая, религиозная, эсхатологическая, социальная, психологическая и т. д. сколько у нас будет лирик?
– Много…
Договорились до того, что представили поэта, который всю жизнь описывал бы туалеты – экскрементальная лирика…
Этот подход в определении лирики – проблемный – тупик. Ничего не выйдет путного из того, чтобы определение лирики выводить из ее предметов: любовь, значит, любовная, пейзаж – пейзажная, масло – масляная. Тупик.
Можно, конечно, сказать – на кой черт вам определять лирику? Есть и есть, не все ли равно какая? Зачем брать в руки скальпель и анатомировать вдохновение художника. Поэт неприкосновенен…
У Бертольда Брехта: «Тот, кто считает стихотворение неприкосновенным, действительно не соприкоснется с ним». Браво! Вот с Брехта и начнем.
* * *
Прежде чем вырезать философскую лирику из «околофилософской», приведу две цитаты.
Брехт: «Нежелание считаться с критериями разума указывает на большую бесплодность поэтического настроения. Если лирический замысел удачен, тогда чувство и разум действует в полном созвучии».
Вл. Соловьев: «Эти /Полонского – В. Л./ стихотворения прямо написаны не „от вдохновения“, а „от разума“. А одним разумом так же невозможно создать настоящее стихотворение, как и настоящего ребенка»…
Немец говорит о разуме как истоке поэзии, русский – о чувстве. Оппозиция старая. Но от этого она второстепенной не стала…
* * *
«Чем я руководствуюсь, когда пишу стихи?»
– Разумом. Мыслью. И лишь потом вдохновением.
– Не-е, это – не поэзия, это – философия. Как писал Вл. Соловьев, «лирика есть подлинное откровение души человеческой». Душа – это чувство.
– А мозгами, значит, не чувствуют?.. Ну-ну…
* * *
Впрочем, остановим этот безыдейный диалог – до тех пор, пока мы будем разводить эти понятия по противоположным сторонам и затем сталкивать их лбами, наш путь обречен. Да и искры от ударов слишком ослепительны; и обжигают. Нынче – чаще. Я чувствую, что стихотворение обдумывается (выдумывается), образы выстраиваются «согласно проекту», – не от сердца, кажется; нет той легкости настроения, с которой когда-то стихи писались.
Единственная мысль, способная защитить меня: человек начинает мыслить не от «прочитанных истин», а от сердца, которое их чувствует. И если мы говорим о поэзии чувств – лирика как она есть; то почему бы не сказать и о поэзии мысли – философия как она есть. Эти два поэтических начала в человеке спаяны. А потому сочетание «философская лирика» не кажется мне нонсенсом; а раз это не абсурд, то ее можно определить.
И еще: я хочу говорить не о темах, не о предметах, не о героях лирики, претендующей на философию. Я хочу говорить о ее внутренней динамике, о ее механизмах, о ее рождении. Говорить – подкожно.
* * *
Начнем с очевидного.
Как правило, едва поэт начинает говорить о месте человека в мире, о его судьбе, об Истине, которую этот человек ищет, как его лирика сразу возводится в степень философскую.
Это неверно.
Нужно просто понять, что говорить в стихах об истине – еще не значит быть философским лириком. Это – тема стихотворения, не больше. Это рассуждение в стихах (оно, кстати, может быть блестящим).
Тема еще не определяет жанра. О судьбе, к примеру, можно рассказывать притчи, просто рассуждать в стихах и прозе, сочинять баллады, воскрешать мифологические образы. Можно вкладывать свои рассуждения в уста своих героев. Можно просто упомянуть об этом по аналогии или под впечатлением (например, от осеннего леса).
Тему можно выражать классически, романтически, реалистически т. д. Принадлежность к той или иной эпохе также не определяет жанра, хотя и влияет на ее выбор.
Философская тема. Философское понятие, явленное в стихотворении. Это еще не есть философская лирика. Одну и ту же тему можно выражать разными жанрами, одно и то же рассуждение можно вписать куда угодно. Повторюсь: определять философскую лирику, исходя из темы, мне представляется неточным.
(Смутная главка вышла – ничего, проясним…)
* * *
Философскую лирику следует отличать от философичной (или философической – если задействовать слово Чаадаева). Философичная лирика, по сути, и есть наше рассуждение в стихах на философскую тему. Поэт здесь использует не столько образы, сколько образность, метафоричность, сравнение. Его задача – сказать мысль, но сказать ее красиво.
Очень яркий поэт-мыслитель – Ф. И. Тютчев. Его знаменитое «Молчание» – «Молчи, скрывайся и таи» – прекрасная иллюстрация к философичной лирике. Тютчев дает нам свою концепцию, мысль, идею человека – в этом была его сверхзадача. Если же мы попытаемся вспомнить хоть один образ из «Молчания», то у нас ничего не выйдет – мысль не воплощена предметно, через что-то, она просто хороша сама по себе.
Примечательно, Арк. Штейнбер, когда комментировал стихотворения Ван Вэя и вообще принцип чань-буддизма, не стал «сыпать терминами», а задействовал Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь» – и китайский поэт менее всего болтлив; «Молчи, скрывайся» – и китайский поэт пишет: «Пусть люди будут редки и в одиночку»; «Другому как понять тебя» – и Ван Вэй ничего не старается объяснить: нарисовал – и все на этом, ни причин, ни следствий, ни целей.
И уж как скоро мы заговорили об этом стихотворении, заметим – именно его чаще всего цитируют русские философы, а Бердяев вообще целиком вставил его в свое «Самопознание».
Философическая лирика, несомненно, имеет свою философскую ценность – мыслитель устал от философских теоретических закорючек, его душа просит полета, а мысль – ритма и рифмы. Таким поэтом-философом был Вл. Соловьев.
У Соловьева есть прекрасная работа, посвященная Тютчеву и его поэзии, – прекрасная тем, что в ней Соловьев высказал почти все свои ключевые идеи: от Души мира до всеединства. Но сказано это по поводу лирики. Вернее, по поводу тех философских проблем, что были лирически заявлены Тютчевым.
Вот, вроде бы как философическая лирика очерчена – лирическое размышление на ту или иную тему. Запомним ее, и отведем в сторону…
* * *
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна…
Так писал когда-то М. Ломоносов, открывая очень своеобразный вид поэзии – натурфилософскую лирику. Этот термин мне подсказал А. С. Гришин – и он был обсужден не раз уже позднее.
Суть натурфилософской лирики – в контаминации, наложении понятий природы на понятие свободы (пользуясь терминологией Канта). Пейзажная картинка, красота природы вдруг находит себе философские эквиваленты. Все тот же Тютчев отлично это показал – в стихотворении «День и ночь». Философский смысл стихотворения выстраивается по аналогии: День – это Гармония, Ночь – это Прародимый Хаос; все вместе, сведенное в один текст, – Диалектика (пусть простит меня всякий за столь примитивное толкование; важен сейчас принцип).
Натурфилософично описание анчара – древа яда – у Пушкина. Натурфилософичен образ вьюги как смерти у Блока. Натурфилософично солнце у Маяковского как всепоедающий Ваал…
Натурфилософическая лирика – лирика, большей частью, символичная, когда изображенное совсем не есть изображаемое. Это не просто пейзаж в его «очарованном состоянии» – как у Фета (редчайшее состояние в русской поэзии»). Это кодирование философских понятий и проблем через образы природы – и уже от их сочетания будет зависеть, как именно решает философскую проблему поэт.
Можно сказать, что натурфилософическая лирика – попытка отойти от абстрагированного мышления; это попытка увидеть философию воочию, как бы мы, к примеру, видели озеро, дерево, звезды, горы. Натурфилософ видит свои идеи в картинках природы, как в зеркале, и когда это изображение становится, наконец, четким и точным, он берет перо и бумагу – подобно тому, как китайский мудрец видит Будду на одном из цветков лотоса среди восьми озер в лучах заходящего солнца.
* * *
И здесь стоит сделать одно уточнение.
Поэт-натурфилософ, идущий от своего разума, обретает поэтическое откровение тогда, когда мир его идей совпадает с миром природы – сила вдохновения здесь огромная, ни о какой надуманности не может быть и речи. Но это – лишь одно направление движения.
У Ломоносова есть знаменитые размышления по случаю божественного северного сияния – картины природы теперь являются источником для философского рассуждения. По такому принципу строится пушкинское «Вновь я посетил».
Настроение, разлитое в природе, становится настроением философским – «в голову мысли лезут разные». Сам пейзаж, местность побуждают к философскому творчеству – очень яркой иллюстрацией станет элегия Жуковского «Сельское кладбище».
Но, рассуждая, мы возвращаемся к философичной лирике, уже очерченной и теперь несколько скорректированной.
Натурфилософскую лирику, равно как и лирику философичную, «изымем для чистоты эксперимента».
* * *
Пушкинская эпоха очертила еще один вид лирического философствования – мифологический, когда лирический герой как бы путешествует по времени и принимает облик далеких предшественников и мифологических героев. Таким путешественником был Батюшков.
Прекрасная Эллада, Рим, древние поэты – все воскрешалось, оживало, переплеталось с реальностью. Размышление о себе мифологизировалось, становилось философским рассуждением о Судьбе.
Представим ряд: Эдип, Нарцисс, Прометей, Зевс, Орфей и т. д.
Другой ряд: Гомер, Софокл, Овидий, Катулл…
Еще ряд: Константин Великий, Лютер, Аввакум…
Наконец: Христос, Будда, Магомет, Кришна…
Поэт ищет созвучие – к тому стремится его душа: кто станет его мифом, кто – предтечей, кто – героем, кто – богом. Из этих созвучий рождается аккорд, и этот аккорд – не только чувственное порождение, у него есть своя логика, настройка, без которой любой инструмент будет издавать лишь фальшивые звуки.
Откапывать исторические древности отправились символисты – к примеру, Вяч. Иванов, В. Брюсов. Воскрешение мифа неизбежно ведет к философскому его пересмотру (или хотя бы комментарию).
Широк и диапазон мифологической лирики – от осколков в пределах стихотворения или даже одной строчки до нового переложения старого мифа (как, примеру, воскрешение Заратустры у К. Бальмонта). Могут мифологизироваться не только персонажи, «герои», но и целые эпохи, целые конфессии, целые народы; мифологизируются исторические события – и вплетаются в поэтическую ткань. А символика, как известно, всегда философична; и мифология, если исходить из Платона, всегда будет стоять на страже и философии, и поэзии…»
Очень часто мифологическая поэзия воспринимается как интеллектуальная игра – постарался Джойс, ничего не скажешь. Но упрек поэту в неискренности – один из тяжких.
Совсем недавно произошел разговор (еще один) – не бывает ли со мной так, что кажется, будто твоя душа – не только твоя, но и еще кого-то? Да, бывает – мне не дает покоя Бунин (мой погодка через сто лет) – нет, не столько творчеством: чем-то иным.
Определить это что-то иное так же трудно, как и объяснить «принцип наложения душ». Разве что можно показать наглядно – мифологическая лирика, например…
* * *
Больной, сошедший с ума Батюшков писал стихи – бессвязный набор образов, символов, состояний, чувств. Мог ли предполагать он, что на излете ХХ века такие стихи станут нормой поэтического творчества, что цепочка (вернее, разбросанные ее звенья) частных индивидуальных восприятий и ассоциаций будет признана и позолочена элитарным сознанием?
Такой богатейший набор ассоциативных образов – у Бориса Гребенщикова: от сказочных драконов и мира зеркал до дверей травы и царства Бодхихармы. Как часто спрашивают: о чем он поет? Как ты вообще его слушаешь?
Поет – «ни о чем»; слушаю – с удовольствием.
Мне интересна сама синтагматика его песен – сочетание слов, образов, пусть иногда лишенная последовательности. Иногда хорош мифологический круг, в котором эти образы словно танцуют (лучший – круг Екатерины).
Б. Г. неоднократно говорил, что «Аквариум» – это не группа, а философия, это образ мышления; это – видения красивого холма…
Г. Гадамер, попытавшийся свести философию и лирику вместе, пришел именно к ассоциативности и случайности, к чистой лирике, где из звуковых фигур и «обрывков смысле» вдруг (по волшебству?) выстраивается целое. «Слова вызывают созерцания, громоздящиеся друг на друга, перекрещивающиеся, упраздняющие одно на другое… Из этой напряженности словесного поля, из напряжения звуковой и смысловой энергии строится целое».
Вот он – спаситель андерграундного мышления! Комбинация слов, лишенная смысла и вышедшая из настроения, поворота мозгов, из «листьев травы» все равно будет обладать целостностью – индивидуально-психологической. Это – ассоциативный лик человека, который уже не может стоять вне философии уже хотя бы потому, что это лик человека.
Ассоциативную лирику очень часто называют философской – вероятно, в силу ее туманности, зыбкости, парадокса и загадочной раздробленности. Но ассоциативная лирика пусть остается ассоциативной, а мы все же ищем философскую…
* * *
Из России в Англию переберемся: чтобы оправдать наш эпиграф, из Блейка.
В трясину мальчик угодил,
Кружа за светлячком;
Он закричал – но тут предстал
Господь: родным отцом.
Найденыша он приласкал
И к матери отнес,
Блуждавшей с криком в лесу великом,
Охрипшей от долгих слез…
Счастье Блейка в том, что он был художником – живопись требует изображения, а не рассуждения об Истине. Возьми идею – и нарисуй ее…
Именно зрение художника создало и заблудших мальчиков, и трубочистов, и обретенных дочерей, и розы, и лилии, и ягнят, и комья земли – все для того, чтобы показать в «Песнях неведения и познания» «два противоположных состояния человеческой души» (как Блейк сопровождает свое название).
И все-таки: почему бы Блейку не ограничиться своими «Видениями дщерей Альбиона», «Бракосочетанием Рая и Ада», «Французской революцией», наконец? Зачем ему понадобились какие-то «профанированные» ягнята и заблудшие мальчики? Написал бы лучше философский трактат «О двух состояниях человеческой души»…
Для Блейка важно было не сказать свою идею так, как она есть, а показать ее, нарисовать ее – заставить обыкновенные вещи работать в том ключе, какой необходим для философской системы Блейка. Эта работа меньше всего строится на ощущении, она не импрессионистична. Философская логика определяет движение поэтических образов.
Стихотворение как средство изображения философской идеи я и склонен относить к философской лирике.
* * *
Еще в начале разговора был поставлен вопрос: позвольте, а в чем специфические черты этой лирики?
Философская мысль в ее поэтическом выражении должна быть привязана к чему-нибудь, как бычок к колышку. Миру идей должен соответствовать предметный мир лирики. Ярким примером можно назвать пушкинские «Бесы», где бесовское кружение и гибель души человека однозначно привязаны к мутному небу, вьюге, летучему снегу:
Сбились мы, пути не видно…
Та же основа у «Медного всадника», где проблема власти, истории, личности в истории решается не вербально (Пушкин нигде не рассуждает об этом), а иносказательно. Философской лирике свойственен четкий параллелизм – идея закодирована в образах. История и личность как философские понятия спроецированы в образе Петра и образ сумасшедшего Евгения; отношения между ними – стихия, «пучина Петербурга». Если бы в схватке с Медным всадником победил Евгений, мы бы сказали: философская проблема решена Пушкиным в пользу личности. Если наоборот – значит наоборот. В этом смысле поэтический образ есть метафора, символ – означающее не есть означаемое. Медный всадник у Пушкина – это не фальконетов монумент.
Лучшим примером философского творчества является притча; и философская лирика всегда стремится стать притчей. В этом – ее священнодействие, таинство.
Вот почему с самого начала сказано: философская лирика – лирика древняя. Зачем Блейку рассказывать про заблудившегося мальчика? – зачем тогда Христу рассказывать о заблудшем сыне?
Не подумайте: я не занимаю сюжет притчи в основу философской лирики. Меня интересует сам механизм притчи: четкое соответствие изображенного философской или любой другой идее.
Другой пример. Индийского слона, вслед за Борхесом, я назову прекрасным поэтическим творением – и количество его бивней, растущих отовсюду, меня не смутит. Важно другое – индийский слон есть символ направления движений, «роза ветров», философское и научное знание. Точно так же, как медный всадник есть символ власти и избранных.
С. Л. Кошелев приводил такой пример: сравните «Старика и море» Хемингуэя и «Жизнь Клима Самгина» Горького. Если герои последнего романа рассуждают без усталости о философии, то герой повести Хемингуэя лишь выполняет свою рыбацкую работу – только выполняет он ее в канонах притчи. То же самое мы можем сказать применительно к философичной лирике и лирике философской.
Следующей специфической чертой философской лирики станет ее ситуативность – место действия, ситуация, в которую попадает «закодированный герой». В зависимости от того, как он решит эту ситуацию, решится и философская проблема.
Ситуация перестает быть обыкновенной событийной обстановкой тогда, когда приобретает иносказательный смысл. Такова, к примеру, ситуация в «Соловьином саде» Ал. Блока; такова ситуация в «Бесах» Пушкина; такова ситуация в «Сне» Лермонтова.
Философская лирика, как правило, не многогеройна, не многообразна. Загруженность персонажами, метафорами, образами лишь затемняет смысл сказанного. Появись в «Медном всаднике» пара-трешка других героев – и чистота смыслового выражения была бы безнадежно заретуширована. Если философичная лирика стремится к метафорическому нагнетанию образов и символики (вот что мне ужасно не нравится в современной поэзии), то философская – напротив, к единичности образа (зато такого, какой надолго врезается в память).
Одногеройность и своеобразный художественный прагматизм делают философскую лирику «примитивной», «лубочной», «простецкой» (поэтому мы обозвали блейковских героев профанированными). С позиции эстета такая простота, конечно, «хуже воровства».
Но между философской лирикой и лубком есть одно очень-очень важное отличие – лубок простонародно транскрибирует, записывает на понятном языке непонятные философские истории; лирика же непосредственно эти истории заново разыгрывает, всякий раз корректируя их философское, этическое и религиозное содержание.
А что касается простого языка – я не слышал более простой истории, чем история о добром самарянине. Нужно говорить просто, точно и ясно… Конечно, когда знаешь, о чем ты хочешь сказать.
* * *
Возможно, этот разговор и вышел смутным – «я, как собака, все понимаю, а сказать не могу». Да и академического определения не состоялось. Впрочем, я и не ставил это целью – дневник не статья, все стерпит…
1995