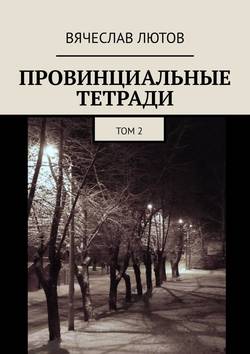Читать книгу Провинциальные тетради. Том 2 - Вячеслав Лютов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
СОЗЕРЦАНИЕ И СОЗЕРЦАТЕЛИ
Попытка ограничения (1996)
ОглавлениеЯ думал… не помню, что думал.
А. Фет
* * *
…Тибетский мудрец счастлив, когда в лучах заходящего солнца он видит восемь озер с ясной и чистой водой, и посреди каждого озера – шестьдесят миллионов цветков лотоса, и на одном из них – лучезарного Будду.
Наш среднерусский дурак счастлив, когда лежит на лесной поляне в окружении птичьего щебета, душистой травы, водки, закуски и женщин.
Тибетский мудрец жаждет молчания и одиночества, мы же предпочитаем шум, балабольство и веселую компанию.
Руки буддийского странника покойно сложены на груди, наши руки восторженно поднимают ветер и смуту.
Но вот наступает миг, когда шум утих, губы устали растягиваться в улыбке, друзья бросили тебя на берегу – и ты смотришь на волны, но словно не видишь их; ты думаешь о чем-то – и безмерно счастлив, что ни о чем не думаешь.
«Что произошло со мной?»
Собственно, ничего – ты не стал ни лучше, ни хуже; ты даже не знаешь, чем именно наслаждался: воздухом ли, рекой ли, волнами ли, мыслями ли. Это незнание пугает, но не настолько, чтобы отказаться от этого блаженного состояния.
Я бы назвал тебя Созерцателем.
* * *
Одно – в зрачках моих, одно – в замкнутом слухе;
Как бы изваянный, мой дух навек затих,
Ни громкий крик слона, ни блеск жужжащей мухи
Не возмутят недвижных черт моих…
Так описывал К. Бальмонт своего индийского мудреца. Русский человек (как и западный) не склонен к медитации, природа его сознания экстравертна, в отличие от интровертного Востока. Но состояние отрешенности ему все же дорого – «мне все надоели, я хочу быть один, оставьте меня, не мешайте мне».
В лучшем случае (если это не истерика), это – облагороженно-обиженное и эстетически-одинокое безделье и бездумье. Лишь потом, когда на смену отрешенности придет разум, начинаешь оправдываться за эти мгновения; «не ровен час, можно одиноким остаться».
А одиночество? «Созерцателей, – как говорил Достоевский, – в народе довольно…»
* * *
В истории человеческой мысли есть целый ряд понятий, которые не определены – каждый понимает по-своему, каждый дает свое определение. Постигла та же участь и созерцание. Его определения разрослись настолько, что совершенно затмили суть; оно (созерцание) вмещает в себя и узрение и умозрение, видение и сновидение, видимое и невидимое; оно и манифестация и оракул, и знак и символ, оно осознанно и бессознательно.
В этом хаосе определений, конечно, есть своя неповторимая красота и привлекательность; но постоянство хаоса – что может быть хуже!
Мы пойдем по пути Фердинанда де Соссюра, который когда-то очистил лингвистику от социологии, психологии, эстетики, философии – ему необходимо было ограничение, жесткая схема, четкая проблема.
«Сначала нужно место расчистить». Понятие, какое бы оно ни было, желает одиночества, понятию не нужны ни друзья, ни возлюбленные; оно желает быть чистым. Вот и мы вспомним для начала мужичка с картины Крамского и посмотрим на него глазами Достоевского».
* * *
«У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием Созерцатель»: изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении мужичонко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то созерцает. Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас точно проснувшись, но ничего не понимает. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем это он стоял и думал, то наверное бы ничего не припомнил, но зато наверное бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания» («Братья Карамазовы»).
Вот этот-то Созерцатель, на поверку, выходит один из излюбленных героев Достоевского. Писателю нравится погружать своего героя в состояние некоей прострации, в какое-то консервирующее, завораживающее положение.
Есть Созерцатель и у Л. Толстого. Князь Андрей, раненый, падает со знаменем; поначалу он хотел увидеть, как решился исход боя; но «он ничего не увидал… кроме неба… „Как тихо, спокойно и торжественно… Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него…“ Болконский, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном… Он не знал, как долго продолжалось его забытье».
Прекрасный поэтический пример дает Фет:
Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды вглядясь, —
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.
Я думал… не помню, что думал,
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор.
* * *
Можно, конечно, сказать, что всех приведенных в пример созерцателей зачаровала красота природы, магия природы, которая и заставляет человека «стряхнуть с себя пыль суеты жизни». В этом очаровании, возможно, нет ничего предосудительного.
Правда, до поры до времени.
Только ли в лесу человек становится созерцателем? Может быть, он есть и в кварталах Сенной площади?
Есть у Достоевского одно «клиническое» описание, задействованное впоследствии А. Камю в «Постороннем», – старика с собакой. «Тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя… Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство… Об чем он думает? Да и думает ли о чем-нибудь» («Униженные и оскорбленные»).
Итак: смотрел, но не видел…
В подобное же состояние был погружен и Раскольников во время «прогулки» на Острова накануне убийства. Очень часто у Достоевского использована эта психиатрическая ремарка: тот момент, когда человек очнулся, вышел из забытья…
* * *
Можно вспомнить и пушкинского «Медного всадника» – того несчастного Евгения, который, сойдя с ума, завороженно смотрит на разбушевавшуюся стихию, созерцая ее грандиозность, не задумываясь при этом о своей гибели:
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений…
Завораживают и «катастрофы частного порядка», которые еще не состоялись, но уже предчувствуются и даже подготавливаются.
Так, в «Митиной любви» Бунина Митя перед роковым свиданием и самоубийством был «как деревянный», «подолгу смотрел в потолок», «читал том Писемского, не понимая ни слова». Потолок – не озеро, а Писемский – не зимний лес: что же здесь завораживает с такой же силой, как и мужичонку Крамского-Достоевского?
У Гаршина в «Ночи» есть описание самоубийцы, лихорадочно перебиравшего чувства, мысли, воспоминания; есть и одна примечательная деталь: «Войдя в комнату, он бросился, не раздеваясь, на кресло, увидел фотографическую карточку, книгу, рисунок обоев, услышал тиликанье часов, забытых им на столе, и задумался, и просидел, не шевельнувшись ни одним мускулом, до глубокой ночи».
* * *
Важно: динамика мысли заставляет человека суетиться, вдохновляет его и дает силы (пусть даже и на то, чтобы писать, как Жуковский, стоя, или ходить по комнате, или набивать папиросы, как Достоевский). Неподвижное думание, завороженность говорит лишь о статичном состоянии: человек замер – человек «словно уснул» – человек умер…
Созерцание оставляет не чувства, не мысли, и уж тем более неспособно «создать систему», – оно оставляет лишь впечатление, «фотокарточку». И нам, грешным делом прервавших Достоевского и его мужичка именно на впечатлениях, остается лишь завершить эпизод:
«Впечатления же эти ему (мужичонке) дороги, и он, наверное, их копит, неприметно и даже не сознавая, – для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может, вдруг, накопив впечатлений за долгие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то и другое вместе».
«Красота спасет мир», – восклицал Достоевский, а его вредный мужичонко в самой что ни на есть красоте зимнего леса копит впечатления, чтоб село спалить…
Впрочем, не будем пока о плохом. Лучше поговорим о поэзии и эстетике…
* * *
Если созерцать (пусть совершенно неосмысленно), то, конечно, созерцать нечто прекрасное и гармоничное, чем и являются картины природы.
Русская поэзия была богата пейзажем (это нынче он не в особой моде) – пейзаж выполнял и обыкновенно пространственные, и временные (как в «Евгении Онегине»), и натурфилософские (как у Тютчева) функции. То или иное отношение к пейзажу могло бы в нас выдавать романтика ли, философа ли, или обыкновенного натуралиста; могло бы говорить о предпочтении мира духовного социальному или наоборот (как это было в некрасовском «Утре»); могло бы говорить о нашем темпераменте, чувствах, наклонностях.
Единственный пейзаж, который ни о чем не говорит и никакой функции не несет, – пейзаж созерцательный.
Поэт в нем исчезает: нарисовал увиденное – и только…
Об этой «фотографичности» впервые заговорил А. Фет: «Не вправе ли мы сказать, что подробности, которые легко ускользают в живом калейдоскопе жизни, ярче бросаются в глаза, перейдя в минувшее в виде неизменного снимка с действительности?»
Н. Страхов, словно канонизируя образ не столько русского поэта, сколько восточного мудреца-буддиста, писал о Фете: «Он уловляет только один момент чувства или страсти, он весь в настоящем. Каждая песня Фета относится к одной точке бытия».
Арк. Штейнберг в примечаниях к переводам из Ван Вэя писал: «Среди догматов дзен-буддизма есть такое положение: истина заключена в моменте истины». Все, что было до «момента речи» или будет после, уже не имеет к истине никакого отношения. Потому-то многие образцы китайской (например, Ван Вэй) или японской (например, Басе, Дзесо) лирики похожи на легкий снимок, на фрагмент китайского шелка, где «люди редки и в одиночку».
Так, у Басе:
Проталина в снегу
А в ней – светло-лиловый
Спаржи стебелек.
У Бусона:
Цветы сурепки вокруг
На западе гаснет солнце
Луна на востоке встает.
Нет ни вскрика, ни ударов кулаком в грудь, ни восторга, ни печали – ничего нет. Совершенно неважно: откуда это взялось и чем станет потом. Никого не интересует: отчего проталина или что с того, что солнце гаснет.
В восточной лирике есть одна потрясающая черта: не осквернять природу человеческими суждениями, не унижать природу своим же познанием ее же. Ведь писал когда-то Лао-Тцы: «Откажись от познания, и беспокойство оставит тебя…»
Открытие созерцательности в русской литературе опять-таки было сделано маленьким стихотворением Фета:
Чудная картина,
Как ты мне рода:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.
Л. Толстой восхищался этим стихотворением и говорил, что каждое выражение здесь – картина. Та же картина, лишь за исключением предутренней экспрессии, в стихотворении «Шепот, робкое дыханье…» – нет ни действий, ни динамики, как нет сказуемого (о чем восторженно писал Д. Благой).
Такие статичные картинки, целиком отвечавшие идее «чистого искусства», не могли и восприниматься ничем иначе, нежели изящной словесностью. Читателю предлагалось самому войти в картину и наполнить ее движением. Но русский человек ленив, а Созерцатель никуда не зовет. Потому-то созерцательный пейзаж «восхитителен, но совершенно бесполезен».
Впрочем, русская созерцательная лирика не так уж обширна. Есть созерцательные картинки у А. Майкова:
Бледнеют тверди голубые:
На горизонте – все черней
Фигуры, словно вырезные,
Вдали пасущихся коней…
У К. Бальмонта:
Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн…
У А. Блока:
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека,
Бессмысленный и тусклый свет…
У Б. Пастернака:
На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна.
Бескрайний, жаркий, как желанье,
Прямой проселочный простор,
Лиловый лес на заднем плане,
Седого облака вихор…
У Ю. Попова:
Солнца медленный исход.
Шорохи из леса.
Опустевший огород
В дымовых завесах…
Однако, время антологий все же еще не пришло, а потому поспешим ограничить примеры, чтобы поговорить о другом – об эстетической оценке созерцания и созерцателя.
* * *
Эстетический разум западного человека в последние два-три века с созерцанием и созерцателями усиленно борется; созерцание оказывается по ту сторону искусства (не станем оспаривать). Судите сами.
У Гегеля: «Подлинный предмет поэзии составляют не солнце, не горы, не лес, не пейзаж, не внешний облик человека, а духовные интересы». У Шеллинга: «Если художник сознательно захотел бы полностью подчиниться действительности, то он создавал бы слепки, а не художественные произведения». У К. Г. Каруса: «Художник должен рисовать не просто то, что видит перед собою, но и то, что видит в себе». Говорил о «слепках с действительности» и Н. Бердяев: «Фотография проивзодит тяжелое, удручающее впечатление.
Положение поэзии, таким образом двойственное: с одной стороны, она выражает то, что выражает, а с другой, неизбежно символизируется, мифологизируется, эстетизируется и т. д. Потребность же в кодировке вообще стала важнейшим условием для литературы ХХ века.
Впрочем, таким же эффектом обладает и совмещение изящной литературы с философией, социологией, теологией; поэт оказался должным, следуя за Белинским, выражать «не частное и случайное, но общее и необходимое».
Поэт словно превратился в трудолюбивую конягу, которая каждодневно должна вспахивать философские поля.
А если поэт устал «пахать»?
Что ж, тогда наш лирик-созерцатель неизбежно оказывается по ту сторону «задач литературы».
* * *
Некоторую шумиху и неразбериху в эстетический канон русской классики внес серебряный век. Созерцатель парировал упреки ему тем, что новое слово поэзии возможно лишь за синтезом культур Востока и Запада; оговорился и тем, что новое слово несет в себе экзотику (в прямом и переносном смыслах). Наконец, поэт отправился на Восток лично – и на его путевых картинах появилась печать восточной созерцательности. Ярким примером тому стихотворение Бунина «Цейлон»
Матара – форт голландцев. Рвы и стены,
Ворота в них… Тенистая дорога
В кокосовом лесу, среди кокосов
Лачуги сингалезов… Справа блеск,
Горячий зной сухих песков и моря…
Блок оказался еще смелее, и в «Пузырях земли» задействовал тот «наднациональный и космический» верлибр, каким обычно переводят китайскую лирику:
На перекрестке,
Где даль поставила,
В печальном веселье встречаю весну.
На земле еще жесткой
Пробивается первая травка
И в кружеве березки —
Далеко – глубоко —
Лиловые скаты оврага…
А. Белый замечал, что литература начала века «повернулась лицом к Востоку», но на восток, к нашему счастью, не пошла (должно быть, испугавшись панмонголизма). Да и Блок, к слову, кроме цикла «Пузыри земли» к подобным формам больше не обращался.
Созерцание оказывалось не просто бесполезным – оно шло словно вразрез с архетипом русского поэта…
* * *
У нас Созерцателя на руках не носят – он, может быть, и красив, да не нужен. Разве не примечательно: стихи Некрасова распевала вся Россия, между тем как двухтомник Фета не разошелся и за 30 лет?
С Созерцателем не о чем говорить – и это невозможно; он вас не видит, «словно перед ним пустое пространство». Созерцатель не может быть ни поводырем, ни жилеткой – само созерцание некоммуникативно; это завороженное пустынничество; дом без окон и дверей; особый парадокс чувство – смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать.
Созерцание не ищет собеседника, не поднимает и не решает проблем, оно внеактуально, внесовременно, а потому для текущей жизни обречено.
Может быть, нам стоит пожалеть Созерцателя? – конечно, стоит; но при этом не забыть, что, едва он накопит впечатлений, «может и село родное спалить».
* * *
«Созерцателей в народе довольно.
Вот одним из таких созерцателей был наверное и Смердяков…»
Как странно видеть в нашем поэтическом созерцательном ряду такую препротивную и мерзкую фигуру, как Смердяков! В одночасье легкая паутинка лирики Фета, нежные и светлые картинки Пастернака, подорожные штрихи Бунина оказываются помеченными духом смердяковщины.
Но так ли это? Уж не перемудрил ли Достоевский?
Нет, не перемудрил, хотя ничего и не объяснил.
Посмотрите, как созвучен Смердякову герой К. Бальмонта:
Я ненавижу человечество,
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа…
Наш Созерцатель социально бесполезен, внеэмоционален, нечувствителен, бездумен, внеконтактен, обособлен. Он как бы находится по ту сторону добра и зла, прекрасного и безобразного, счастья и горя; мир для него как бы исчез, перестал существовать. Его состояние – состояние стационарное, когда больному, находящемуся в бессознательном положении, вливают нечто. Это нечто – совсем не обязательно природа или красота чего-нибудь, это может быть и душный город, и катастрофа, и безобразное, причем, именно безобразное чаще всего останавливает наш взгляд и завораживает нас.
Наконец, опасно не само состояние, а выход из него, возвращение в мир, первая эмоция этого возвращения, которая, как правило, непредсказуема. Потому-то Достоевский так легко отождествляет своего Созерцателя со Смердяковым; но на его месте мог быть и не-Смердяков.
* * *
«Человек по природе своей есть существо политическое», – писал Аристотель в том смысле, что человеку необходимо «совместное жительство». Созерцание, таким образом, есть отступление от этой природы, ее функциональное нарушение. Достоевский совершенно четко зафиксировал это нарушение, признав созерцание состоянием регрессивным, в лучшем случае оставляющим человека на том же уровне, что и прежде.
И здесь очень важно заметить: потребность человека в регрессивных состояниях не меньшая, чем в тех, к которым мы разумно призываем. Жажда забыться и очароваться утоляется различными способами – к примеру, алкоголем или наркотиками. Любое опьянение – алкогольное или наркотическое – все же имеет достаточно четкие установки: для веселья ли, для леченья ли, за компанию ли; наконец, «все подлецы, надоело все!» – и следом за Раскольниковым спустившись в винный подвал, подумаем: «Не напиться ли мне пьян?»
Бездумье блаженно, радостно, счастливо – это обыденное восприятие сводит на нет почти все завоевания философской и эстетической мысли.
«Мыслящий тростник» мечтает стать просто тростником…
* * *
Наш мужичок Крамского-Достоевского оказывается не так уж и прост, как с первого взгляда. Напротив, в нем кроется неведомая сила, способная разрушить не одну благопристойную философскую систему.
Однако, философия странным образом обошла деструктивные состояния человека, переложив их на плечи психологии и психиатрии. В неклассическую эпоху философия не просто стала занятием избранных, но предпочла разработать канон для избранных; она в общем понятии «человек» видела только человека деятельного, а не обыкновенного: ленивого, пьяного, необразованного, неотесанного, равнодушного. Она словно придумала себе идеального человека, и через него проверялись истины. Наш Созерцатель неизбежно станет антиподом философского человека.
Оттого-то философия созерцания за свою двухтысячелетнюю историю преставляет собой полнейший беспорядок, хаос, бардак. Но иногда полезно покопаться в чердачном хламе и выбрать для себя (по настроению) старые вещи.
В свое время А. Ф. Лосев, анализируя Платона в «Очерках», говорил о двух ключевых и универсальных понятиях в философской системе знаменитого мыслителя: «эйдос» и «идея». Первое нам дается в ощущениях, мы можем его видеть, созерцать, узреть, это своего рода контур, лик; эйдос –выбор частного из общего, и красота здесь в конкретизации. Второе – идея – нам достается в познании, в умозрении, в мыслеполагании, оно сопоставимо с другими частями и образует целое. Благодаря этому осмысленному обратному движению Платон замыкает круг.
В созерцании движение лишь одностороннее – «увидеть, и только».
Созерцание эйдетично…
* * *
При некоторых оговорках этим платоновским понятиям соответствует и кантовское разделение мира на понятия природы и понятия свободы; и созерцание служит своеобразной лакмусовой бумажкой – природа дается нам в зрении (созерцании), свобода – в умозрении (мышлении).
Впрочем, ни Платон, ни Кант созерцание никак не выделяют, оно отождествимо со зрением.
Из старых философов к нашему Созерцателю больше всех подходит определение Ф. Бэкона, назвавшего наше состояние «благопристойным бездельем». Однако, традиционно, философия не любит простоты и очевидности, а потому любое обыкновенные, «одомашенное» чувство или состояние начинает обрастать такими истолкованиями, которые обыватель даже и предположить не мог.
Так, Н. Кузанский отождествил созерцание с возможностью и начал свой трактат «О вершинах созерцания» таким непритязательным диалогом:
– Можешь поднять этот камень? – спросили у мальчика.
– Могу…
Мальчик, посмотревший на камень, по сути, совершил целый ряд действий, от которых наш созерцатель непременно открестился бы, – восприятие, анализ, соразмерность, целеполагание, оценка. Вряд ли эти действия завораживают, скорее, наоборот.
Много непонятного, а потому не всегда точного внесла в истолкование созерцания немецкая классическая философия: она отождествила созерцание со всем тем, что хоть сколько-нибудь с ним соприкасается.
Так, Н. Гартман в своей «Эстетике» наделял созерцание возможностью видеть невидимое, «знание людей покоится на интуитивно обостренном взгляде», – и тем чрезмерно раздвигал границы понятия. Созерцание у Гартмана «наполнено радостью и радость наполнена созерцанием». Иными словами, пушкинского Евгения, созерцающего пучину Петербурга, мы должны посчитать счастливым…
Через Гартмана и Шеллинга созерцание стало отождествляться с откровением и интуицией – человеку открывалась не картина, не изображение, а определенная информация, которую ему теперь надлежит использовать. Но мы же знаем: спроси Созерцателя, о чем он думал, так и не вспомнит, подобно тому, как многие не помнят сны (тот же Гартман отождествлял созерцание и со сновидением).
Шеллинг заговорил об особом «интеллектуальном созерцании» – игра воображения, фантазия; фантазирование действительно зачаровывает, но оно все же деятельно, а не статично.
Наконец, внесла свою долю в общий хаос и русская философия. Так, через С. Булгакова и И. Ильина созерцание стало «духовным смотрением и видением». «Созерцание – это такое наблюдение, которое вчувствуется в самую природу вещей. Созерцание возносит человеческую душу и делает ее окрыленной».
И вправду, русская мысль настолько полярна, что, сведи ее воедино, мы получим окрыленный тип Смердякова. Вообще, связывать созерцание как с божественным откровением, так и с духовным деланием несколько греховно: представьте, что было бы, если бы, к примеру, Иосиф оказался созерцателем и, получив откровение, тотчас забыл о нем, очнулся, «ничего не вспомнил бы». Откровение и духовное делание не могут быть статичны – они требуют действий; и человек здесь – деятельный пророк – этот профетический тип, который пусть и одинок, но социален. Он, избранный, уже не имеет права таить, прятать в себе откровение – и уж тем более пренебрегать им, «забыв, проснувшись».
У Ильина к созерцанию приложено такое сочетание: «Око духа». Возможно, что эти понятия – созерцание и узрение – от одного корня; но кто сказал, что однокоренные слова обязательно синонимичны – они в полной мере могут иметь полярные значения.
Око Созерцателя – невидящее око…
* * *
Нет, нашему мужичонке с философами не договориться и не объясниться.
«Мыслю – значит существую». Но когда я «не мыслю», я все равно существую, и неизвестно, какое состояние для человека лучше. Есть радость познания, но и радость отречения от познания не меньше. Интересно во все заглядывать, но если, вслед за Розановым, «надоело заглядывать»? «Почему я должен во все заглядывать»? Вряд ли здесь возможно примирение, и воинственный разум зачастую схож с той синицей, что пытается поджечь море.
Не станет Созерцатель говорить с Философом – для созерцания философия не нужна, в то время как для философии это состояние человека рано или поздно станет краеугольным…
Впрочем, оставим нашего Созерцателя в зимнем лесу и не станем его будить и расспрашивать – ибо неизвестно, какую утрату понесет он, очнувшись…
1996