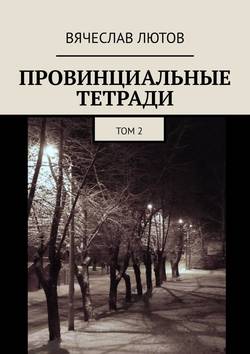Читать книгу Провинциальные тетради. Том 2 - Вячеслав Лютов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ПОРТРЕТ СИБИЛЛЫ ВЭЙН РАБОТЫ БЭЗИЛА ХОЛЛУОРДА
Заметки на полях романа Оскара Уайльда (1996)
ОглавлениеВсякое искусство совершенно бесполезно.
Портрет Дориана Грея.
* * *
…Пожалуй, очень трудно найти такое произведение, которое, будучи так плохо сделано, врезалось бы в память и оставалось в ней навсегда – знаменитый «Портрет Дориана Грея».
Если изъять из него одну единственную вещь – сам портрет работы Бэзила Холлуорда – то роман сразу же потеряет всю свою ценность, представ обыкновенной интеллектуально-эстетической игрой, причем довольно низкого уровня.
Судите сами: герои романа столь прозрачны и узнаваемы, что за Дорианом, продавшем свою душу, отчетливо проглядывается Фауст, за лордом Генри Уоттоном, этим веселым циником и проводником Дориана в мир страстей и наслаждений, выглядывает Мефистофель именно кисти Гете, за печально историей актрисы Сибилы Вэйн, влюбившейся в Дориана и брошенной им, опять-таки вырисовывается история гетевской Гретхен – Уайльд даже не потрудился придумать иной конец, как самоубийство. Эта троица, оформившая некогда первую часть бессмертного «Фауста», теперь в тех же одеждах блуждает по страницам романа Уайльда. В них нет ровным счетом ничего нового и даже ничего интересного – разве только шутки лорда Генри чуть-чуть украшают чтение и даже могут служить материалом для фрейдовского «Остроумия»
Ничего нового не вышло и с Нарциссом, чертами которого Уайльд наградил своего героя, – дальше хрестоматийной трактовки дело не идет. Поиск наслаждений, от которых «сгорел» Грей, снова напоминает Фауста с его жаждой познания любой ценой. А уж полемика вокруг Искусства и Действительности – стара как мир…
Художественный талант Уайльда состоял, быть может, лишь в том, что убогость его героев лишь подчеркнула ценность самого портрета и художника, его нарисовавшего. Поэтому и запишем: портрет Дориана Грея – главный герой этого романа…
* * *
История с портретом, как она дана у Уайльда, принадлежит к тем гениальным порождениям фантазии, которые оправдывают все погрешности их словесного выражения. Мы не столько следим за нагромождением грехов Дориана и умиранием его души, сколько за изменением в портрете, нас больше волнуют превращения именно на холсте, чем похождения того уродливого существа, что спрятано под маской молодости и невинности. В какой-то мере мы должны быть благодарны Сибиле Вэйн, отравившейся, кстати, снадобьем для гримировки, – в ту минуту, когда она выпила яд, на портрете Дориана впервые появилась жестокая складка у губ…
«Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью…»
* * *
У меня, к большому сожалению, нет достаточно «полного» Уайльда (с письмами и подробными комментариями), чтобы я мог бы решить один навязчивый вопрос – был ли знаком Уайльд с «Портретом» Гоголя?
Вообще, Уайльд русскую литературу знал очень хорошо, если даже отважился сделать своими героями тип русского нигилиста, заявленный когда-то Тургеневым. А потому более чем вероятно, что он читал историю художника Чарткова и даже взял ее за одну из основ. И Дориан Грей, и Чартков, по сути, занимаются одним и тем же – уничтожают красоту, уродуя все, что попадается им на пути. Они даже кончают собой одинаково – вонзают нож в полотно с надеждой, что отомстят кому-то за свою искалеченную душу.
Кто этот «кто-то»? – откуда ж нам знать!… Хотя…
Ни Дориану, ни Чарткову не дает «спокойно спать по ночам» – портрет. Это – не вещь, это – живое существо. И оно имеет свою историю.
* * *
«Живой портрет» – явление в литературе, видимо, уникальное, и, собственно, кроме Гоголя и Уайльда, никто не идет на ум.
В какой-то мере подобное оживление портрета можно сравнить с мифом о Пигмалионе и Галатее, который в эпоху литературы хорроу, «тихого ужаса», раздробился и стал кучей маленьких мифов. Ныне же оживляется все – статуи, куклы, манекены, мебель, даже кусты и целые отели, как это было у Стивена Кинга. Мертвый камень получает своего живого двойника. Весь вопрос в том, являются ли портрет страшного ростовщика и портрет Дориана Грея осколками мифа именно о Пигмалионе? Так ли они похожи на фокус графа Калиостро, потрясшего русскую тмутаракань?
Как известно, Пигмалион, влюбившись в статую, попросил Афродиту оживить ее, после чего зажил семейной и веселой жизнью; все завершилось вполне голливудским хэппи-эндом. Задача же наших портретов, равно как и развязка их история, совершенно иная.
Так, мастер Холлуорд пишет портрет с целью обессмертить красоту Дориана Грея – так понимает это сам натурщик; на это же указывает и «мефистофель» лорд Генри – «Красота быстро изнашивается». Беда мастера в том, что он слишком много вложил себя в этот портрет. Мотив бессмертия красоты – это не просто дань неоромантической моде, это, скорее, одна из тех философских универсалий, которая неизбежно всплывает на поверхность, едва человека посетит «страх смерти». Не случайно лорд Генри говорил, что смерть – это единственное, чего он боится; этот страх перешел и к его ученику – Дориану.
Тот же мотив бессмертия, как это отмечает В. Розанов, был явлен и у Гоголя в «Портрете» – ростовщику портрет нужен с единственной целью: не умереть полностью, остаться жить хотя бы на холсте. Вся разница лишь в том, что уайльдовский художник пишет свой портрет с воодушевлением и любовью, а гоголевский – со страхом и отвращением.
Мотивы бессмертия красоты и бессмертия безобразного – две стороны одной медали…
Галатея родила Пигмалиону ребенка – оживление способствовало началу новой жизни. Наши же портреты «оживлены» лишь затем, чтобы умертвить кого-нибудь.
После того, как художник бросил кисть и сбежал, старый ростовщик умер – дух оригинала перешел в портрет; после того, как Холлуорд нарисовал невинного и прекрасного юношу, явился бездушный монстр – оригинал умер…
* * *
Роковое в каждом портрете то, что портрет не может иметь двойников – он утрачивает их, как только кисть художника сделает последний мазок. Именно эта обреченная единственность портрета встревожила и Гоголя, и Уайльда и заставила их искать двойника – только двойник способен оживить портрет и сделать его, если исходить из мысли Ю. Лотмана о двойничестве, фигурой мифа.
С этого момента изображение перестает быть просто изображением, пространство холста наполняется первобытным мышлением, зарей человечества, высветившей миф как миропонимание.
«Изгиб ваших губ переделает заново историю мира».
* * *
«…И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в раму обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам…»
Белинскому в свое время не понравился именно этот «фантастический элемент» – упрек Гоголю был естественен: позволительно ли писателю, создавшему «Ревизора» и «Мертвых душ», заниматься страшными сказками!
Позволительно – иначе не стал бы Гоголь в 1842 году заново переделывать всю повесть. Конечно, следует оговорить: вторая редакция во многом была зависима от религиозного перелома в судьбе Гоголя – а потому история художника, нарисовавшего дьявола, есть личная история Гоголя и во многом его программа.
Сказочный же портрет остался почти неизменным: и было в этой «сказке» то, на что старая критика не обратила внимания: «нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою, не связано ли существование портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение?»
Глаза страшного ростовщика, прожигавшие насквозь и забиравшиеся внутрь, теперь целиком управляли положением – калечили души, жизни; это было помутнением, замешательством. Портрет ростовщика есть своеобразная персонификация рока, судьбы, это мифический бог предопределения, сказавший совершенно ясно и однозначно – судьба человека суть промысел темный.
Бог дал человеку душу, дьявол наградил человека Роком…
* * *
У Чарткова была одна идея, «более всего согласная с состоянием его души» – ему хотелось изобразить «отпадшего ангела». Эту работу сделал за него Оскар Уайльд.
* * *
Портрет работы Бэзила Холлуорда, несомненно, сложнее, чем те глаза, которые, по примеру Леонардо да Винчи, задействовал Гоголь. Сложнее хотя бы потому, что портрет Дориана Грея лишен сказочных хождений – в нем нет той инфантильной мистики, что бросается в глаза у Гоголя. Уайльдовский портрет целиком живет внутренней жизнью, она протекает где-то в глубине холста. Не случайно же Дориан пытался уразуметь ее по атомам, какие, вдруг перестроившись, образовали жесткую складку и испортили его лицо.
Загадку этих изменений он так и не понял.
В целом же, мечта Дориана сбылась. «Я знала его восемнадцать лет, и он ничуть не изменился», – говорила в грязном притоне износившаяся женщина брату Сибилы Вэйн.
Мечта Дориана сбылась – он уступил свой рок своему портрету.
* * *
Гоголь и Уайльд словно меняются местами: если у Гоголя портрет властвует над художником Чартковым, ставшим его заложников, то у Уайльда Дориан властвует над своим портретом – он желает видеть свою судьбу со стороны, и ему это, надо сказать, неплохо удается.
Но весь нарциссизм разом исчезает, как только Дориан начинает со злорадством рассматривать портрет: и вот уже видит, как тот стареет и покрывается пятнами, как на нем изобилуют человеческие пороки. Смерть Нарцисса – это раздавленное зеркало. У Дориана одна страсть – изничтожить совершенно ту красоту, что запечатлел когда-то Холлуорд. Грей находит в этом особое садо-мазохическое удовольствие; он соблазняет, бросает и растаптывает женщин, чтобы наложить на холст печать сладострастия; он идет на убийство, чтобы на холсте появились пятна крови; он очаровал деревенскую девушку и затем благородно ее оставил – на холсте остается лицемерие…
Впрочем, стоит ли пересказывать – мы все равно это сделаем еще хуже Уайльда.
«Есть что-то роковое в портрете» – портрет и есть сам рок: и это ослепительно выразил Уайльд. Под занавес Дориан начинает понимать, что его власть над портретом – лишь иллюзия, что все метаморфозы, происходившие в глубине холста, были подобны кнуту в руках извозчика, а он – Дориан – английская лошадь…
Лошадь, в одно мгновение ставшая клячей…
* * *
«Портрет этот – как бы его совесть. Да, совесть. И надо его уничтожить…»
Однако, не слишком ли легко объяснил Уайльд свое детище? Да, его портрет – правдивое зеркало Дориана, его боль и страх…
«Я покажу вам свою душу, – со злостью говорит Дориан художнику. – Вы увидите то, что может видеть только господь бог».
Что же может видеть только бог, как не исковерканную судьбу человека! Ведь «каждому воздастся по делам его».
Уайльд довел идею с оживлением портрета до логического конца – и создал мифического бога Судьбы. Он-то и врезается в нашу память. Только теперь, в отличие от Гоголя, он сделал этот миф самодостаточным, не требующим «второй части» с объяснениями, оправданиями и покаяниями. Портрет Дориана Грея несет в себе какой-то языческий ужас, «это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле» – и не случайно Холлуорд призывает Дориана к молитве. «Очисти нас от скверны».
– Так вот что вы сделали со своей жизнью! Какой урок, какой страшный урок!.. Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола!..
Поздно, Холлуорд, через минуту тебя убьют…
* * *
«Это лучшая твоя работа, Бэзил», – лениво промолвил лорд Генри. Уайльдовский Мефистофель не восхищался; единственное, что его интересует, это предстоящая работа над убийством души Дориана Грея, а портрет – бог с ним, пусть поможет прекрасное для сотворения безобразного. Ведь комплекс Нарцисса начался именно с этого портрета, и породил идола именно художник Бэзил Холлуорд.
Примечательно: наряду с воодушевлением и любовью к работе над портретом было привлечено еще одно чувство: «инстинктивный страх», «внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома… мне стало жутко…» То же самое тревожное и тягостное чувство испытывал и гоголевский художник, хотя поначалу принимался писать «жадно».
И здесь важно заметить: оба художника писали портреты и раньше – и ничего трагического им эта работа не сулила. Но вот появились ростовщик и Дориан – и наступил не просто кризис творчества. Это была трагедия творчества.
Прав Камю, когда писал, что человек является жертвой своих же собственных истин; а потому будет справедливым сказать, что художник является заложником своих же произведений. Личная, может быть, даже психиатрическая трагедия художника начинается тогда, когда у его творения появляется двойник; когда произведение начинает жить особой мифологической жизнью, рассыпаться в реальности и, несмотря на это, контролировать ее. Тогда возникает инстинктивный страх – страх перед роком, возникает и предсмертная молитва Холлуорда, и строжайший пост и религиозная экзальтация у гоголевского художника.
Портреты начинают выворачивать душу своим создателям.
«Всякое искусство совершенно бесполезно», – записал Уайльд красивую фразу.
«Оно еще и совершенно порочно», – добавили бы наши художники…
* * *
Есть еще одно сходство между Уайльдом и Гоголем: «крупнейшим завоеванием» критики стала оценка двух «портретов» как эстетических произведений, в которых главная тема – отношение писателя к творчеству. В хрестоматийных учебниках по зарубежной литературе главной темой «Портрета Дориана Грея» считается, к примеру, второе «Я» человека и его искушение преступлением без наказания. Другой темой является проблема ответственности художника, которая так ярко была выражена Гоголем, но запрятана Уайльдом в душу художника Холлуорда.
Итак, ответственность – за что?
Случай с гоголевским художником все же прозрачен – он виновен в том, что осквернил свою кисть, написав глаза дьявола, и теперь молитвой и духовным подвигом должен был искупить свой грех. В чем же вина Холлуорда?
Слишком бы простым показалось сюжетное объяснение: зачем художник передал Дориана Грея в руки лорда Генри, отлично зная, кто такой лорд Генри? Зачем лорд Генри, в котором так и сквозит искуситель, является лучшим другом Бэзила Холлуорда – они даже учились вместе: где, чему?
Наконец, зачем портрет был написан так восхитительно, что Дориан Грей сразу же согласился обменять его на свою душу?
Пособником темных сил оказался мастер Холлуорд, который слишком поздно понял весь ужас, им произведенный. И если он, как говорят, вложил в портрет свою душу, то мы знаем, во что она превратилась впоследствии. Трагедия Холлуорда, возможно, в том, что он явил миру: нет, красота не спасет мир – она его изничтожит…
Печаль художника не в отрицании искусства – оно будет вечно манить к себе человеческие души; печаль художника – в созерцании результатов искусства…
* * *
«Красота страшна…»
Потому-то все великие художники так часто оказывались сломленными этой трагической безысходностью, так часто их неспособность лицемерить приводила к личной драме, которую мы, обыкновенные обыватели, смотрим разинув рот, – и при всем ужасе их биографий, так завидуем им!
Художник обречен на трагедию Рока – вот и все, что, собственно, смог бы сказать о себе мастер Бэзил Холлуорд, если бы остался жив.
Под занавес Судьба посмеялась и над самим Оскаром Уайльдом, заточив его в тюремную камеру, а потом выбросив нищим на улицу. И он понял, как проникновенно пишет о том Камю, что все его «хрупкие и сверкающие здания его ранних произведений разлетаются на мелкие осколки», что прежнее искусство, которое он «задумал вознести над всем миром», оказалось неспособным протянуть ему руку помощи.
Он смотрел на свое творение глазами Бэзила Холлуорда, в темной классной комнате, куда завел его Дориан Грей. Возможно, он увидел истинный свет, иначе не написал бы своей знаменитой «Баллады».
Но занесенный над ним нож еще раз возвестил: художник обречен на Трагедию Рока…
* * *
Впрочем, мы заговорились и совершенно забыли о той девушке, чье имя выставлено нами в заголовок.
Мне нравится само имя – Сибила Вэйн; мне нравится, что с ней произошло то же самое, что и с Гретхен, имевшей несчастье влюбиться в Фауста; то же самое, что с нимфой Эхо, которую оставил когда-то Нарцисс; «в ее смерти есть что-то удивительно прекрасное»; мне нравится, что ее источник оказался незамутненным, что она не стала, как все те женщины, которых мы встречаем в жизни…
Меня только смущает, что то же самое думает почтенный циник лорд Генри Уоттон.
* * *
«Нарисуйте мне Сибилу, Бэзил…»
Почему художнику Холлуорду не выполнить бы просьбу Дориана Грея, которого он так любил и боготворил? Может быть, он и написал его, только Уайльд об этом умолчал? Каким мог быть портрет Сибилы Вэйн кисти мастера Бэзила Холлуорда?
В темной комнате Дориана художник написал бы Сибилу в тот миг, когда она, поднимаясь с пола, пытается ухватиться за тень Грея. В тот миг в ее глазах было все: и боль, и страх, и надежда, и любовь, и ненависть, и обида, и безрассудство, и жалость. Глядя в эти глаза, мы бы жалели Сибилу Вэйн, мы бы любили Сибилу Вэйн, мы были бы готовы отомстить за Сибилу Вэйн. Это был бы хороший портрет.
Но хуже портрета Дориана Грея…
Художник мог бы написать ее в первых лучах зари, уже мертвую, но тем еще сильнее поражающую своей красотой и невинностью. Мы бы стояли пораженные перед Сибилой Вэйн, и лишь потом, очнувшись, мы бы, наверное, вдруг вспомнили Христа с полотна Гольбейна-младшего, и нам стало бы страшно. Это был бы хороший портрет.
Но хуже портрета Дориана Грея…
* * *
– Нарисуйте мне Сибилу, Бэзил…
– Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас…
– Это невозможно!..
Вот и условие, при соблюдении которого портрет Сибилы мог бы появиться.
Когда-то Бэзил признался лорду Генри, что с появлением Дориана Грея ему открылось новое видение мира, он стал замечать то, чего не находил раньше, его кисть обрела и уверенность, и трепет. Дориан Грей нужен был ему как наркотик; он незримо присутствовал во всех полотнах, которые Бэзил писал при нем. Причем, художнику было достаточно, чтобы Дориан просто сидел рядом.
Условие страшное. Как бы чувствовала себя Сибила Вэйн, едва художник стал бы вживлять в нее душу Дориана Грея? Какой бы Рок повел ее, меняя черты ее портрета?
Сибила Вэйн была бы жива и знала бы Дориана Грея лет восемнадцать…
Это был бы очень хороший портрет, почти такой же, как и портрет Дориана Грея…
апрель, 1996