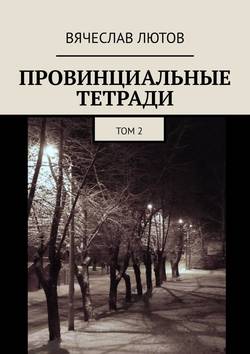Читать книгу Провинциальные тетради. Том 2 - Вячеслав Лютов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
АЛЕКСАНДР БЛОК И СМЕРТЬ
Заметки к поэме «Двенадцать» (1996)
ОглавлениеКак тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!..
А. Блок
* * *
Удивительно жить в эпоху, когда старые идеи и ценности слишком значительны, а новые, если и появились, то еще не вошли в обиход. Привычка – дело жестокое; от нее нельзя отказаться в одночасье; она всякий раз будет напоминать о себе. Именно этой печатью привычного восприятия помечена оценка поэмы «Двенадцать», ставшей для массового сознания «символом революции».
Этот миф о «Двенадцати» оказался слишком въедлив – так много в ней революционных образов: и отряд красноармейцев, и паршивый пес старого мира, и мировой пожар на горе всем буржуям, и неугомонный недремлющий враг, и свобода без креста. Есть и околореволюционные образы: голытьба, грабежи, убийства. Ныне подобная символика явно не в моде – заново «перекрещенные», мы от прошлого «открестились» и предпочитаем «вредную поэму» обходить стороной. Упоминать о ней в окололитературных кругах считается дурным тоном, в околонаучных – никакой диссертации не защитишь…
Но все же стоит вспомнить, что мода весьма переменчива, и не резон попадать в зависимость от нее. И в этих привычных стереотипах мало кто замечает, что внешняя революционность поэмы совершенно заслонила личную трагедию Блока как художника, трагедию, по сути, похоронившую поэта заживо…
* * *
Но прежде: о спорах, которых вокруг поэмы было превеликое множество.
Символисты, пусть в лице «семейства Мережковских», «зело обидевшихся» на Блока и решивших «не подавать ему руки», дальше вербального уровня в прочтении поэмы спуститься не захотели (в этом, кстати, вообще беда Мережковского) – и определили поэму как элементарное заигрывание с большевиками.
Другой лагерь, марксистский, пусть в лице Луначарского, предложившего в финале поэмы вместо Христа явить в лучшем случае Ильича, в худшем – хотя бы матроса, также не соизволил заглянуть за лексику, но зато мигом растащил поэму по плакатам.
Первые же взвешенные оценки поэмы появились уже после того, как накал страстей несколько спал, а сам Блок умер. Мы остановимся пока на двух именах: К. Чуковском и Ю. Айхенвальде – благо, и тот, и другой заложили «магистрали прочтений и ошибок».
У Чуковского есть положения общепринятые и давно академически защищенные – глубокая национальная и народная основа поэмы, революционный ветер, метафизика вьюги, старый и новый мир. Общеизвестно и предостережение Чуковского – не смотреть на Блока однозначно; двоемирие «Соловьиного сада» было перенесено и на поэму «Двенадцать». В этих положениях нет никакой тайны или загадки.
Первая загадка, по Чуковскому, появилась тогда, когда заговорили об измене Блока самому себе, ужасаясь: «Кто бы мог подумать, что рыцарь „Прекрасной Дамы“ способен опуститься до такой низменной темы!» Задачей Чуковского как раз и стало оправдание Блока – мол, поэт не изменял себе, не опускался, и появление «Двенадцати» было закономерно.
Говорит Чуковский и о том, что «для понимания этой поэмы нужно знать прежние произведения Блока, с которыми она связана органически». Не будем спорить – все совершенно точно. У Чуковского итогом этого сопоставления стала мысль о том, что «Блок уже давно, много лет, сам того не подозревая, был певцом революции».
Наконец, трудно удержаться от версии Чуковского относительно появления Христа в финале поэмы – «Для него /Блока/, как и для Достоевского, главный вопрос, с богом ли русская революция или против бога… почему же никто не догадался об этом?» Догадались – и в русской философии не раз оговаривалось, что любая революция все же имеет своей основой религиозную утопию – построение Града Небесного на земле. Большевики, помимо жажды власти, идеально разыграли подобные футурологические настроения. В этом смысле, появление Христа совершенно логично и не имеет никаких противоречий с отрядом красногвардейцев, даже если те и без креста…
Но мы все же поставим под сомнение – является ли эта трактовка предельной глубиной в понимании поэмы? О том ли сама поэма? Не потерял ли Чуковский самого Блока, которого хорошо знал лично, ограничившись, в принципе, достаточно очевидной трактовкой?
Совершенно иначе оценивает поэму Ю. Айхенвальд – он видит в ней кризис Блока; в творчестве поэта «Двенадцать» оказались явной несуразностью. Упреки – в отсутствии внутренней связи, в моде, в нарочитом большевизме. Некоторые слова Айхенвальда трудно оспорить – и, к примеру, знаменитое убийство из ревности Катьки могло бы произойти в совершенно любое время, а не только революционное: «Разве революция – рама, в которую можно вставлять любую картину?» Само событие, на котором строится поэма, «ни революционно, ни контрреволюционно». Это, по Айхенвальду, несуразность первая.
Далее, чисто вербально: старый мир «безмолвен как вопрос» – исследователь прав, заметив, что именно старый мир первого николаевского думства как раз говорлив, криклив и шумен. Сравнение же старого мира с «безродным псом» вообще вне критики – как раз он-то породист, родовит, огербован и зачислен в летопись. Это – вторая несуразность.
Двенадцать красноармейцев неизбежно ассоциируются с двенадцатью апостолами (кто ж спорит?), хотя для апостолов они слишком пьяны, темны и дики. Призванные «насадить» новую веру, они, быть может, больше подобны крестоносцам – но даже такой мелочи, как креста, у них нет. Это – несуразность третья.
Наконец, появление Христа с кровавым флагом впереди этого отрепья не только возмутительно, но и кощунственно. «Имя Христа произнесено всуе». Это – несуразность последняя.
Айхенвальду оставалось сделать всего лишь один шаг – найти причину этих несуразностей. Он этого не сделал…
Говорят, Блок «услышал музыку революции и оглох». Оглушение Блока очевидно – он стал беззвучной тенью, «поэт умер – поэт не пишет»; ему словно стало все равно. Оглушение Блока несомненно; но так ли несомненно то, что причиной этого оглушения стала именно музыка революции?
А была ли «музыка революции» вообще?..
* * *
Нет ни одного исследователя, который не обратил бы внимания на особую стихийность отношений Блока к жизни и творчеству – его как будто лихорадило. Так, он мог в покойном веселье, сидя безвыездно в имении, разгадывать шарады, а следом – строчки о гибели и катастрофе. У него был уютный дом – так откуда же взялся пьяный бродяга? Вместе с Любочкой Менделеевой он многим казался царем с царицей – как же появились и пьяное чудовище, и огненные бедра проституки площадной?
Возможно, сам Блок не давал себе в этом отчета, хотя весь трагизм ситуации он, безусловно, чувствовал. Отсюда – фрагментарность блоковского мышления, которая ярче всего явлена в его дневниках – Блок никогда не говорит о произведении целиком и тем более не пытается, в отличие от своего друга-врага Андрея Белого, свести все в какую-либо систему.
Был у Блока и любимый образ, лучше всего отвечающий его способу мышления – сон, где все кажется, видится, слышится, но нигде и никогда не думается. Сон – состояние бессознательное, «неразумное». Самый яркий пример здесь – «Ночная Фиалка» – поэма, целиком воссозданная по снам.
Кстати, по признанию самого Блока, после «Двенадцати» он снов не видел…
Наконец, вспомним и обратную фрагментарности «каменность» Блока. Сентиментальный литературовед всегда восхищался – шесть лет кряду Блок писал только о Прекрасной Даме! Сотни стихов! Если воспользоваться современным вульгаризмом, то Блок – самый «упертый» русский поэт, возможно, самый нищий в выборе тем и философских концепций.
Когда-то говорили в народе: «Два жернова всю пшеницу в муку перемелют». У Блока это – художник и Она, в каком бы виде Она не являлась: Прекрасная Дама, Незнакомка, Снежная Дева, наконец, Россия-Жена…
Все остальное, в том числе и «великий политический переворот», не имеет к Блоку ровным счетом никакого отношения – это обреченные на гибель зерна…
* * *
С этими, несколько затянувшимися оговорками перечитаем заново злополучную поэму «Двенадцать», объяснить которую Блок не мог и даже требовал объяснений за нее с других…
И прежде – одно «лирическое отступление». На одном из школьных уроков, когда я традиционно излагал ученикам известную черно-белую оппозицию цвета в поэме, дети резонно заметили, что в «Двенадцати» не два цвета, а три: черный, белый и красный. Сочетание цветов оказалось весьма прозрачным и узнаваемым – это цвета траурного обряда.
Черный – траур, белый – саван, красный – материя для обивки гробов…
Впрочем, нужно также заметить, что Блок зачастую пренебрегает каноном цветовой символики, хотя принципиально не противоречит ему, – добавляются иные смыслы, как это было, к примеру, со знаменитыми «лиловыми мирами».
Пересмотрим, как просил Чуковский, не только поэму, но и само трекнижие Блока.
Вербально, гробы с указанием цвета у Блока редки, и красного среди них нет: есть серебряный гроб, белый и стоящий во мгле за легкой тканью неизвестного цвета. Между тем, это ничуть не нарушает цветовые каноны «похоронного жанра».
Вообще, «черный-белый-красный» – довольно устойчивое сочетание у Блока, причем, совершенно не важно, черен ли снег, красен ли гроб, бела ли ночь. Важно само наличие этого погребального сочетания и именно в этом смысловом значении:
Ты оденешь меня в серебро,
И когда я умру,
Выйдет месяц – небесный Пьеро,
Встанет красный паяц на юру…
(1904)
Тень скользит из-за угла,
К ней другая подползла.
Плащ распахнут, грудь бела,
Алый цвет в петлице фрака…
(1914)
Многие исследователи говорили о графичности поэзии Блока – черный и белый, мгла и свет, лазоревый и лиловый, небо и земля, сон и явь, Аполлон и Дионис, день и ночь: есть все поводы говорить об антиномии. Но особый символический, чисто блоковский смысл возникает только тогда, когда в эти оппозиционные ряды вмешивается некто Третий.
Этот – Третий – Незнакомый…
Парадоксы мышления Блока имеют в своей основе именно положение «ни сна, ни яви», в неизбежном состоянии какого-то перехода, какой-то метаморфозы. В этом плане показательно, что и красный цвет чаще всего обозначает зарю (не важно: утреннюю или вечернюю), которая как раз и является переходом от тьмы к свету и от света к тьме.
Вместе с тем, функция красного цвета определена Блоком достаточно однозначно:
Открывались красные ворота
На другом, на другом берегу…
(1902)
Расцвеченный красным графический рисунок «Двенадцати» в контексте всего творчества Блока и есть состояние перехода, некая пограничная застава между революционным пафосом, окутавшем Россию, и смертью вообще. Конечно, это сочетание цветов примерял Блок и на себя лично. Еще в 1903 году, в «Распутьях», он запишет:
Я был весь в пестрых лоскутьях,
Белый, красный, в безобразной маске…
Но если мы посмотрим на этот портрет сквозь призму «Двенадцати», то в нем не будет никакого арлекинства…
* * *
Наряду с погребальным трехцветием, в поэме «Двенадцать» ключевым образом-символом, подчеркивающим характер «обряда», является образ вьюги, образы снега и ветра. Странно, что этот символ не был в своей трактовке доведен исследователями до логического завершения, а интерпретировался большей частью в контексте именно поэмы, а не всего творчества Блока. Нет, конечно, упоминалось, что вьюга – это один из любимых его образов, один из наиболее часто встречающихся. Задавались и неизбежные вопросы – чем же он так притягателен для Блока, что же, наконец, он обозначает?
Начнем с некоторых примеров. В одном из стихотворений 1902 года у Блока вдруг появляется «розовый» (заметьте: не белый) снег и появляется в недвусмысленном положении:
На обряд я спешил погребальный,
Ускоряя таинственный бег.
Сбил с дороги не ветер печальный —
Закружил меня розовый снег.
Розовый снег словно отводит Блока от смерти. Пока…
Отметим еще одну очень важную деталь этого примера: снег сбивает с ног, с дороги, почти так же, как пушкинских героев:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам?
Особую мистическую окраску имеет книга стихотворений 1907 года «Снежная маска». И здесь не только созвучны образы вьюги и снега, но и само написание книги – так же, как и поэма «Двенадцать», она была создана в считанные дни, в январе, подобно некоему озарению.
Но тем печальнее это озарение, чем больше понимаешь, откуда оно пришло. Магия вьюги становится магией смерти.
И вздымает вьюга смерч,
Строит белый, снежный крест…
Определено Блоком и ее «местоположение»:
И вдали, вдали, вдали
Между небом и землей…
Самое страшное, почти пророческое состоит в том, что вьюга принимается Блоком с неким сладострастием, зачарованностью, весельем, с неким обреченным злорадством:
Рукавом моих метелей задушу,
Серебром моих веселий оглушу,
На воздушной карусели закружу…
Или:
Нет исхода из вьюг,
И погибнуть мне весело.
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила…
Парадоксальна и идея Блока о трех крещениях: первое, как и положено, водой, второе – снегом, наконец:
…посмотри, как сердце радо!
Заграждена снегами твердь.
Весны не будет, и не надо:
Крещеньем третьим будет Смерть…
Потому-то третья книга – словно и не книга вовсе, а покойницкая комната:
Покойник спать ложится на белую постель.
В окне легко кружится спокойная метель.
Пуховым ветром мчится на снежную постель.
На замолчавшего после 1918 года Блока страшно было смотреть – не человек, а тень от человека, призрак, галлюцинация, мертвец… Вот он-то, мертвец, со всей ясностью появившийся в 1912 году в «Плясках смерти», остался незамеченным и никого не насторожил. А жаль. Ибо воистину,
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться…
* * *
Наконец, особым метафизическим образом для Блока является образ дороги. Наш герой уходит, скитается, странствует, бродит, возвращается, снова подходит к окну, «спешит на обряд погребальный», «входит в темные храмы». Порождения его фантазии тоже не стоят на месте: старушка бредет, о сугробы спотыкаясь, черный человечек ходит по городу и гасит фонари; да и красноармейцы из «Двенадцати» все совершают на ходу, «походя». Не составляют исключения даже «высшие силы»: то появляются, приходят, то исчезают, то манят вдаль, то вместе с поэтом рука об руку бредут по бездорожью.
Впрочем, Блок сам объяснял это достаточно просто – «Главное в писателе есть чувство пути». А путь, шаг, и есть тот ритм художника, потерять который равносильно смерти.
Во всем этом хаосе «дороги для дороги» не найти одной очень важной детали: направления движения. Куда идем? Зачем идем? Как все это напоминает известный постулат: «Движение – все, конечная цель – ничто».
Напоминает – и только. Главное отличие в том, что для Блока дорога перестает быть движением, она становится его состоянием. И поэт на этой дороге подобен тем героям Достоевского, которые куда-то смотрят, но ничего не видят, кого-то слушают, но не слышат, наконец, куда-то идут, но никуда не приходят. Поэт похож на ту недвижную каплю воды, которую река несет по своему руслу.
Поэт обречен – «серебряный путь приводит к гробу»:
Вот меня из жизни вывели
Снежным серебром стези…
А потому печальна и смерть нашего героя, бросившего некогда меч, но оставившего посох:
Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала…
* * *
Однако, вернемся к «Двенадцати». Чаще всего поэму «Двенадцать» называют вершиной творчества Блока, венцом поэта и его трилогии вочеловечения; реже – завещанием поэта новым эпохам и романтической революционной утопией; и почти никогда – эпитафией. Как странно, что тот же Чуковский, говоривший о творчестве Блока как о пути гибели, в отношении «Двенадцати» совершенно изменяет логике и пишет о жизнеутверждающем начале. У него и Христос в поэме – жизнеутверждающ, хотя у Блока Он – сила карающая (о чем, собственно, позднее).
Впрочем, как мы уже говорили, революционный флер ввел в заблуждение многих…
Если поэма «Двенадцать» – все же эпитафия, то возникает резонный вопрос – кому именно? Начнем же с видимого – с революции.
Как-то Блок в дневниках заметил: «Марксисты – самые умные критики, и большевики правы, опасаясь «Двенадцати». Прежний «советский литературовед» с благоговейным трепетом твердил первую часть этой записи, предпочитая совершенно не замечать второй. Аполитичному исследователю от этого легче не становится – чем же могла напугать большевиков эта поэма?
На вербальном уровне таким «пугалом», несомненно, является появление Христа в финале. Действительно, как обелить революцией то, против чего сама же революция выступила? Как соединить несоединимое? На этот счет возникли две не очень-то убедительные версии. Первая поясняла, что Блок все еще находился «в плену старого мира», а потому на Христа в поэме нужно смотреть как на творческий и религиозный атавизм. Другая, более симпатичная версия, но столь же неубедительная с точки зрения даже обычного церковно-приходского мышления, пыталась доказать, что Христос явлен затем, чтобы благословить отряд красногвардейцев на создание нового и счастливого мира.
Внешне идеологически опасным могло бы показаться и само число двенадцать. Недаром же Айхенвальд упрекал Блока за то, что тот «спутал дюжины». Прямая ассоциация с двенадцатью апостолами неизбежно наполняет поэму излишним религиозным светом. Впрочем, если постараться, можно нейтрализовать и это – и пусть будут подобны «провозвестникам нового», которые когда-то взорвали изнутри Римскую империю…
Мы уже говорили о блоковской графичности; первая главка поэмы с ее знаменитым «черным вечером и белым снегом» на этом, собственно, и строится. Краска смерти наносится только с появлением отряда:
На спину б надо бубновый туз!
В стихотворении 1907 года «Обреченный» есть странный вопрос:
И в какой иной обители
Мне влачиться суждено,
Если сердце хочет гибели,
Тайно просится на дно?
Эта жажда гибели целиком будет перенесена в поэму «Двенадцать», и бубновый туз, символ арестантских рот, – это только начало. Жажда гибели подчеркнет обреченность революции и всех тех, чьими руками она делается:
Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить.
Ощущение, что перед нами почти готовый отряд комикадзе, готовых за идею разорвать друг друга и себя лично в клочья; и сама служба в красной армии вдруг становится равносильна самоубийству. К слову, Блоку не хватило лет двадцати жизни, чтобы убедиться в этом воочию и найти подтверждение своему «лубочному» тезису…
Символика цвета всегда таит в себе неожиданности; от одной из них мы и оказались незастрахованными. Кто еще в поэме помечен красным? Кто еще помечен «буйным желанием сложить голову»? Это – наша невинно убиенная героиня:
У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа…
– Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча…
Деталь настолько «микроскопична», что вроде бы нет никаких поводов обращать на нее внимание. Но суть в том, что все остальные-то герои никак не расцвечены. Истолковывать убийство «меченой» Катьки можно по-разному, но сам прецедент «свой своего» ведет к мысли об автофагии революции, ее самоуничтожении, самопоедании…
Сразу после убийства «за дело» берется вьюга:
Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся…
Значение образа вьюги нами уже было рассмотрено; здесь же акцентируем: вьюга поднимается именно после убийства – оно ее порождает, оно ее вызывает, как духа, оно заказывает себе саван. Конечно, все списать на одну революционную эпоху и ее неразборчивую и слепую жестокость нельзя. Правда, можно оговориться сентиментальной тирадой, что «ни одна идея не оправдывает бессмысленных (равно как и осмысленных) жертв». Но это слова, и к поднявшейся вьюге эти оговорки имеют малое отношение.
В музыке Блока возникают особые диссонансы. Он сам как-то записал в дневнике сомнение – а та ли это революция? Что, если она не та? Кстати, подобная «другая революция» заставила Горького писать «Несвоевременные мысли», Бунина – «Окаянные дни». Такой неразборчивости вьюга простить не могла:
Ой, пурга какая, спасе!
Она кружит, хоронит, погружая не столько в расцвеченный средневековыми художниками-мистиками великолепный Ад, сколько в совершенно пустой снежный языческий Аид, в ничто, где нет ни одного чертика со сковородкой, где нет ничего, кроме вьюги и кровавого отцвета.
Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!
Нет также и избавления от вьюги; и даже мечтать об этом в провале Аида совершенно бессмысленно – это будет подобно тому человеку, выпрыгнувшему из окна и мечтающему «в полете» опять вернуться на подоконник.
И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи напролет…
Принимает особое, мистическое и вместе с тем абсурдное звучание даже злополучное «трах-тах-тах». Если в сцене убийства оно еще имело какое-то логичное объяснение, то теперь палят без разбору, словно в предсмертной агонии, палят по сугробам, по «снежным столбушкам», словно охотятся на кого-то.
Кто там ходит беглым шагом,
Схоронясь за все дома?
«За все дома» – не за один дом, не за угол, не в подворотню, а сразу за все дома разом. Кроме «лингвистической ошибки косноязычного Блока», подобный оборот можно объяснить лишь одним – этот «снежный кто-то», видимо, всеобъемлющ…
Парадоксальное замечание делает Блок в дневниках 1918 года: «Если вглядеться в столбы метели на этом (революционном – ?) пути, то увидишь «Исуса Христа». Имя закавычил сам Блок. В другой записи он уточнит: не Христос, а Другой. Но кто он, этот Другой, Блок не знал…
И все же, ответьте, ради бога – с революцией Христос или нет? Ведь так очевидно сказано: «Впереди – Исус Христос».
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим…
Спросим, однако, – от чьей пули? Ведь кроме красногвардейцев в поэме больше никто не стреляет…
Революция есть бунт, и бунт обреченных. Что-то было утеряно в русской революции с самого начала, возможно, точно так же, как утерял Блок в имени Иисуса одну букву…
* * * (ХРИСТОЛОГИЯ АЛЕКСАНДРА БЛОКА)
«Имя Христа упомянуто всуе». Приговор Айхенвальда чрезвычайно строг; но судья здесь напоминает человека, которого захлестнули эмоции (что, впрочем, часто бывает в смутное время), а потому детали, «мелочи суть мои боги», оказались незамеченными. Но тем обиднее, что Христос из «Двенадцати» всегда упоминался всуе всеми, кроме Блока, – его так и не расслышали. Обидно и то, что Блок, в принципе, оказался причислен к таким апологетам суесловия, как, к примеру, Брюсов или Мережковский.
Даже из вышесказанного относительно революции видно, что строчки Блока о Христе совсем не пустозвонны – и если мы пока не можем найти им объяснения, то это ничуть не означает, что этого объяснения не существует.
В поиске отгадки нам необходимо выбраться из текста самой поэмы и заново перелистать трекнижие Блока, чтобы из разрозненных кусочков собрать образ Христа таким, каким его видел Блок.
Вообще, образ Христа у Блока встречается не так часто, а потому странно, что исследователи поэмы «Двенадцать» не поставили принципиального вопроса: почему же именно Он? Так, появление в «белом венчике» Девы Марии было бы для всего творчества Блока гораздо логичнее и вполне предсказуемо; да и в тех редких случаях, разбросанных по трилогии, Христос чаще всего появляется именно с Ней и именно через Нее:
Ты была светла до странности
И улыбкой – не проста.
Я в лучах твоей туманности
Понял юного Христа.
Или:
Там – в глубине – Мария ждет молений,
Обновлена рождением Христа.
Наконец, в известном стихотворении «Ты проходишь без улыбки»:
…Богоматерь!
Для чего в мой черный город
Ты Младенца привела?
Есть у Блока и мотив «совместного странствия» – своего и Христа:
Мы странствовали с Ним по городам…
Он направлял мой шаг завороженный…
Есть и калькирование:
Да. Ты – родная Галилея
Мне – невоскресшему Христу…
На этом «доброжелательность» Блока к образу Христа исчерпывается; его Христос начинает принимать другие формы. В нем возникакет особое мифологическое противоречие, особое отстранение от канона. В «Двенадцати» образ Христа именно мифологизирован, что и вводит в заблуждение интерпретаторов, привыкших к богословским трактовкам.
Этот тезис, несомненно, требует определенных доказательств.
Еще в «Прекрасной Даме» Блок обронил:
Бужу я память о Двуликом.
Какую память? Культурологична она или архетипична? Почему именно Двуликий, а, к примеру, не триединый? Можно, конечно, сослаться на привычную двойственность творчества Блока:
В Тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма.
Другой пример:
Наутро ввысь пущу мои крики,
Как белых птиц на встречу Царя…
Как черных птиц на встречу Христу.
Можно углубить положение о двойственности Христа и сказать, что Блок попросту не различает Христа и Антихриста (это, кстати, уже встречалось в блоковедении, но сейчас у меня нет возможности уточнить источник). Версия заманчива, но все же несколько не соответствует истине – у Блока, в отличие от других символистов, попавшихся на антихристову моду, Антихрист нигде не упоминается; нет и героев, которые были бы явно противопоставлены Христу; нет и того социального типа, который мог бы, например, явить положения об Антихристе Вл. Соловьева.
Стало быть, двойственность образа Христа лежит вне библейских источников.
Гораздо вернее искать ее истоки во времени двоеверия (если обратиться к истории) – в той самой эпохе, когда «язычество примеряло на себя христово рубище». У Блока как раз этот мотив выражен чрезвычайно ясно:
Ты прости нас, старушка ты божия,
Не бери нас в Святые Места!
Мы и здесь лобызаем подножия
Своего полевого Христа…
В цикле «Родина»:
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе…
Кто же это – «свой Христос»?
С. С. Аверинцев в одной из статей, посвященных славянству и византийству, приводил в пример одно из обозначений такого мифологического Христа: Спас Ярое Око. Вот оно, то парадоксальное сочетание, так мучившее Блока: спасение и ярость.
Присмотримся еще раз к строчкам Блока.
В первой книге стихов:
Что сожалеть в дыму пожара,
Что сокрушаться у креста,
Когда всечасно жду удара
Или божественного дара
Из Моисеева куста…
(1902)
Во второй книге стихов:
И он потребует ответа,
Подъемля засветлевший меч…
(1907)
Наконец, все в том же стихотворении о дедах – «Задебренные лесом кручи»:
И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе…
(1914)
И еще одна деталь:
Но не спал мой грозный Мститель,
Лик его был гневно-светел
В эти ночи на скале…
(1913)
Попробуйте прочитать финал «Двенадцати» в этом ключе – и смысл поэмы переменится в какой уже раз! Восприятие Христа как единства спасения и ярости дает возможность говорить об особом суде над революцией, и, если брать шире, о суде над Россией. Бунтарский дух уже наказан яростной вьюгой – смертью; но вместе с тем остается еще возможность спасения. Здесь Блок был внимательным читателем Достоевского: «Распни его, судия, да после пожалей…»
Опять вернемся к дневнику 1918 года, где Блок по поводу своего «вьюжного Христа» восклицает: «Как я его ненавижу!» Назвать блока за это атеистом – грубейшая ошибка: из всего соцветия серебряного века он, пожалуй, самый религиозный поэт. Да и верно ли ненависть это? Уж не страх ли?
За что «вьюжный Христос» мстит Блоку? Какая вина висит на самом поэте? Чем является его последнее произведение – покаянной песней или эпитафией? Может быть, та знаменитая революция – всего лишь хорошо исполненная маска, за которой скрыта трагедия совершенно иного порядка?
Вопросов много – сможем ли ответить?..
* * *
О, как паду и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты…
Говорят, существует чисто поэтическое поверье – нельзя предсказывать в своих стихах свою же гибель: зачастую сбывается. Падал Блок или восходил – спор, собственно, обреченный. Скорее всего, его лучше всего назвать движением «вверх по лестнице, ведущей вниз». Его поэтическое мастерство, подчас даже пугающая виртуозность, его философское и историческое предчувствие – течение, несомненно, восходящее; но таким же мастером, если не более превосходным, был «безбожественный» и «безвдохновенный» Гумилев (ведь не случайно они схлестнулись именно в год своей смерти). В 1921 году их объединяло лишь одно – ни у того, ни у другого «божества» как раз и не было. Разница лишь в том, что Гумилев писал, Блок молчал.
Упрек же Блока (основа его знаменитой статьи) не столько акмеистам, сколько самому себе – за то безрассудное уничтожение своего идеала.
Зинаида Гиппиус, когда Блок читал ей стихи, будь то «Незнакомку», «Фаину» или цикл стихотворений «Родина», непременно и почти с восторгом замечала – «И здесь Она!» Вообще, мотив превращений, метаморфоз, персонификаций – мотив сказочный, идущий из глубин; тем-то он и привораживал. Пушкинский Гвидон, превращаясь то в комара, то в муху, затем снова принимал свой прекрасный «гвидонов облик». Идея (персонификация) Вечной Женственности у Блока «изменяла облик» многократно, но в последний раз, превратившись в площадную Катьку, воскреснуть в своем прежнем лазурном великолепии не отважилась.
Закатилась Ты с мертвым Твоим женихом,
С палачом раскаленной земли…
Почему его сказка не имеет счастливого конца? Почему Дева Мария с Младенцем на руках обречена видеть знамение:
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне?..
Все трекнижие Блока – это не просто череда персонификаций и превращений Вечной Женственности. Это особая, мрачная и жестока проверка Ее, это испытание – выдержит или нет? Блок бросает Ее в пучину земных страстей – выплывет или не выплывет? Он рассыпает Ее лазурь по петербургским грязным подворотням – воссияет или останется грязным булыжником на мостовой?
И вместе с тем Блок постоянно испытывает себя – останется ли он Ее пажом, в каком бы облике Она не являлась. «Полюбите нас грязненькими, чистенькими нас всякий полюбит…»
У Льва Шестова есть одно интересное замечание относительно творчества Достоевского: «Он /Достоевский/ договорился /со своей любовью/ до того, что человек должен полюбить даже Елизавету Смердящую». По всей логике низведения своей героини, Блок должен был привести Ее к этому уродливому порождению и тем самым совершить насилие над человеческой природой.
Чтобы спасти свою Героиню, Блок решился убить Ее. Возможно, что в этом он оказался чем-то похож на великого инквизитора, завершившего свою речь словами: «Во имя Твое завтра сожгу Тебя».
Блок словно подкожно почувствовал, что дальше низводить уже некуда; и любовь вот-вот готова обернуться ненавистью, черной злобой. А так, остаются слезы, нежная печаль, светлое воспоминание о лазоревом мире.
Впрочем, есть и еще одно измышление – Прекрасная Дама, вероятно, была далеко не книжным созданием: любой психоаналитик вывел бы из творчества Блока определенный комплекс неполноценности:
Что ты, Петька, баба что ль?
Можно было бы, следом за современной модой, упрекнуть во всем Любовь Дмитриевну, ждущей от великого небесного поэта обычного секса и домашнего уюта. В итоге, также следуя за модой, наказать обоих «за непонятливость»…
Блок словно вытравливал Прекрасную Даму из себя, и чем больнее он Ей делал, тем сильнее билось его сердце; было во всем этом какое-то особое сладострастие, такое, как у Достоевского в отношении страдания. Поэтому трекнижие Блока – это менее всего игра в Аполлона и Диониса, как это обыкновенно по-академически представляют. Это игра совершенно иного порядка.
В 1920 году, в марте, был завершен «заказной» очерк «Лермонтов». В нем есть одна чрезвычайно важная загадка – этот очерк является, пожалуй, самым неудачным во всей русской литературе, написанным на уровне примитивного школьного реферата (не удивительно, что он был забракован). Проницательность Блока всегда поражала многих – у него было не только интуитивное историческое чутье, он был способен найти сокрытые от обыкновенного взгляда поэтические глубины (как это было, например, в «Катилине» с оценкой Катулла).
Почему же никто не обратил внимание, что в очерке именно о поэзии Лермонтова нет ни слова?! Дана лишь биографическая канва и несколько эпизодов из жизни. Говорить о том, что Блок не знал Лермонтова или не понимал его творчества, смешно. Скорее всего, Блок, в силу разных причин, просто не захотел говорить об этом. «Блок – это Лермонтов нашей эпохи», – так говорили о нем современники, и были правы.
Однако шила в мешке не утаишь: в очерке Блок приводит лермонтовский детский сон о луне, воспоминания о первой любви, упоминание о В. Лопухиной, напоминание о резком характере поэта и, наконец, замечание о том, что несколько лет кряду Лермонтов словно искал смерти.
Мы говорили об игре иного порядка – ее и ведет лермонтовский Печорин, пытавшийся уничтожить «женское начало», перестать быть его заложником, целиком подчинив его себе. Лермонтовский демон ожег Блока. Ожег, но сил не дал. Может быть, поэтому герой Блока видит «огненные бедра», но не может ими обладать…
В Блоке явилось два уничтожения – Прекрасной Дамы и себя лично; к пригвожденном к трактирной стойке поэту неизбежно приходит пьяное чудовище с одной единственной целью:
Эх, эх, согреши!
Будет легче для души!..
Он и рад бы это сделать – но сил нет; к тому же, покойники не грешат…
* * *
На поверку оказалось, что Вечную Женственность в лице грязной и блудливой Катьки никто не хотел признавать. Почему же? Ведь видели Ее в Незнакомке, в Кармен, в Фаине, в Снежной Деве, в Ночной Фиалке. Но «толстоморденькой Кате» отказывают в этом созвучии с таким же упорством, с каким не хотят в порыве всечеловеческой любви любить Елизавету Смердящую. Но именно это созвучие для Блока так же естественно, как и все остальные. Не все ли равно, грязна ли она, блудлива ли? Ведь грязную, нищую, убогую Россию приняли за Жену!
Впрочем, этот спор – принимать Катьку за Нее или не принимать – лучше оставить за неконструктивностью: каждый все равно останется при своем. Единственное, какое бы решение мы не приняли, останется неизменным – финал:
Что, Катька, рада? – Ни гу-гу…
Лежи ты, падаль, на снегу.
Итак, если Катька есть персонификация вечной Героини Блока, то поиск самого поэта в поэме напрашивается сам собой – в чьем облике он явлен?
И опять идут двенадцать,
За плечами – ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица.
Так ли обезличен наш герой? Скорее всего, напротив – именно эта «обезличенность» выделяет его из отряда. Показательна и походка:
Все быстрее и быстрее
Уторапливает шаг…
Если это – бегство, то мы опять-таки имеем дело с одним из ключевых мотивов в поэтической системе Блока. А вот и предсказание финала:
Замотал платок на шее —
Не оправиться никак…
Можно, конечно, воскликнуть в исследовательском пафосе: «Се – Блок!» А если это действительно Блок? Тогда вся поэма неизбежно предстанет не музыкой революции, которая больше напоминает скрип пятого колеса у телеги, а музыкой самоуничтожения: все, кончено, не оправиться, не выбраться, выхода нет…
Петруха-Блок выражен очень четко, его внешняя обезличенность оборачивается ясными психологическими характеристиками:
Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
Или:
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
Наконец, знаменитый Петрухин монолог:
Ох, товарищи родные,
Эту девку я любил…
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча…
Взгляните на исповедь убийцы не в контексте поэмы, а в контексте всего творчества – ее прочтение окажется чрезвычайно ясным и однозначным. Вся динамика трех книг Блока движется по «гибельному кругу». Наконец, кризис личной жизни самого поэта так же заставил его говорить именно о пагубе. Но вырваться из этого заколдованного круга, равно как и из блоковской метели, уже нет никакой возможности. Вот и возвращается «на круги своя» и наш Петруха:
Он головку вскидавает,
Он опять повеселел…
Эх, эх!
Позабавиться не грех!..
Отряд красногвардейцев сопоставим с двенадцатью апостолами, из которых самая тяжелая судьба как раз у апостола Петра – прежде всего в том, что он трижды отрекся от Христа, и этот жгучий стыд преследовал его до конца дней. Перед казнью Петр попросил, чтобы его распяли вниз головой («Другой» Христос). Другие его деяния почти не откладываются в массовом сознании; он обречен быть отрекшимся…
В поэме Блока роковой выстрел совершает Петруха (не Андрюха, не Алеха и т.п.) Он же и выделен из всего отряда; за ним же спрятан и сам Блок; он же и любил сильнее всех. Все трекнижие Блока есть это отречение. В «Двенадцати» он клялся и божился, что не знает ЕЕ. Нет, знает, и, главное, любит…
* * *
По воспоминаниям современников, Блок начал писать поэму с 8 главы:
Ох ты, горе горькое!
Скука скучная, смертная!..
Без одной строчки эта главка как будто призвана истолковать революцию, да и вообще все происшедшее с Россией, как забаву, потеху, веселое приключение от нечего делать, пилюлю от скуки. Опущенная же нами строка такова:
Упокой, господи, душу рабы твоея…
Вот и недостающий элемент погребального обряда – молитва, отпевание. Дальше поднимется столбушкой снег, ничего не будет видно, начнется беспорядочная стрельба, и затем, в одной из снежных воронок, появится Христос.
Появится для Блока Другой Христос – «с кровавым флагом» – Спас Ярое Око – «мой грозный Мститель», требующий ответа…
* * *
…Как-то в одном из разговоров один мой хороший приятель сказал, что Блок – самый бездарный поэт из всего соцветия начала века, представляющий собой груду символов и ремиксов. Мой друг прав в том, что весь сборник стихов о Прекрасной Даме мог бы уместиться в нескольких строчках; мой друг прав в том, что лирика Блока – это «нечто и туманная даль»; мой друг прав в том, что поэма «Двенадцать» – исковерканная частушка; мой друг прав в том, что Блок не задумываясь берет и образ Христа, и Софии, и Поэта, и смерти. Он не прав лишь в одном…
Такое ощущение, что Блок не оставил нам ни одного отдельно стоящего стихотворения, да и вся его поэзия словно находится вне канонов привычной эстетики, и каждый раз, когда мы пытаемся эти каноны приложить к Блоку, мы неизбежно получаем отрицание его.
Чем же тогда так притягателен Блок?
Он как будто оставил нас на положении того мастерового, вокруг которого рассыпаны бесчисленные кусочки разноцветной эмали, и он, вот уже на протяжении многих лет, пытается выложить одно-единственное мозаичное полотно. Что будет изображено на нем? Лик Другого Христа? Дева с Младенцем? Уставший поэт с посохом в руке? Что буде фоном – река, вьюга, город, болотная травка или забор, разделяющий тот мир и этот?
Что будет изображено на этой мозаике – откуда нам знать; единственное, что мы знаем, – эта работа рано или поздно будет завершена, как завершена всякая судьба и жизнь человека.
И Поэт застынет в священном ужасе перед ликом Мертвой Софии с полотна Ганса Гольбейна-младшего…
1996