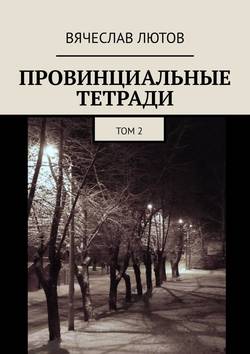Читать книгу Провинциальные тетради. Том 2 - Вячеслав Лютов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
КРУГИ НА ВОДЕ
Миф о поэте и поэзии (1996)
Оглавление«Ты – царь. Живи один…»
* * *
Поставим дату произвольно – в 1837 году в немецком городке Тюбингене в доме столяра Циммера и в русском городке Вологде в доме Гревенсов жили два поэта, беседовали с великим богом смерти Танатосом и трепали по загривку его трехголового Цербера. Сидели на пороге: в тот мир было еще рано, в этот – поздно. Они были чрезвычайно близки друг другу, хотя, возможно, и не знали друг о друге.
Звали их Фридрих Гельдерлин и Константин Батюшков. Они были душевно больны.
Здесь, обычно, сентиментальный литературовед ставит точку – поэт умер…
30 лет жизни первого и 20 лет жизни второго теряют всякую ценность. Они похоронены дважды – в день бегства и в день смерти.
Есть в безумном молчании поэтов что-то мистическое, зловещее, да и само молчание остается, как правило, невостребованным – для исследователя оно похоже на сандалеты, оставшиеся после сгоревшего Эмпедокла. И объясняется все просто: поэт умер, поэт не пишет…
* * *
Ошибка литературоведа: и после Батюшкова, и после Гельдерлина осталась бессмысленная вязь, пусть та самая, которую демонстрирует учебник по психиатрии. Согласимся с этим, но с одной оговоркой: вспомним мысль К. Г. Юнга, что в бессознательном поведении человека нет ничего случайного.
Здесь молчание выходит из-под контроля и обрастает всевозможными догадками. Для нашего героя-литературоведа они неизменно «затемняют чистоту эксперимента», он называет их мифом и требует развенчания. А чаще всего попросту не обращает внимания; молчание поэта не сулит ему новой диссертации и заставляет нашего кропотливого героя обреченно вздохнуть и отправиться в те времена, где поэт еще говорил.
В дневниках Марины Цветаевой есть упоминание о «Ночных песнях» Гельдерлина – тайнопись сумасшедшего. На русский язык они не переведены, да и имя самого Гельдерлина, даже в прекрасном здравии, русскому читателю не очень-то известно. Вот и приходится реконструировать их по редким замечаниям.
Они, впрочем, об одном – мрак и ночь внутри человека.
Страх этого мрака преследовал Гельдерлина всю жизнь: оттого-то из замужней провинциальной Сюзетты Гонтар он соткал прекрасную Диотиму, озарив ее волшебным и ярким светом; оттого-то он побежал, «задрав штаны», в древнюю Элладу, исполненную магическим сиянием…
Оказалась незавершенной его драма – об Эмпедокле, о том самом сумасшедшем философе, который, желая доказать, что душа бессмертна, бросился в пылающую Этну.
Современником Гельдерлина был Э. Т. А. Гофман, написавший «Ночные рассказы» – «фантазии в манере Калло». Другим современником был Арним – самый мрачный и безысходный немец за всю историю немецкой литературы. Так что, мрак был, и мрак этот совсем не романтичен, как часто толковал об этом наш герой-литературовед.
Немцам вообще стоило обидеться на Гельдерлина – он променял их на греков. Но и у самого поэта был резон обидеться на своих сограждан – каменеющий немец боится своего сердца.
Пусть лучше сидит в «башне для свободы» и играет на своем немом клавикорде…
Сумасшествие Гельдерлина явило реального Гельдерлина. Творчество же стало мифом, ликом личности, пользуясь сочетанием А. Ф. Лосева.
* * *
Премудро создан я, могу на вас сослаться,
Могу чихнуть, могу зевнуть,
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться…
Это уже написано в Вологде человеком, которого обычно обходит школьная программа, пряча за облаком «поэты пушкинской поры». Кто-то из учителей, правда, рассказывает печальную историю о том, как Батюшков не узнавал своих близких друзей, о том, как русская литература прошла мимо него, и он был в полном неведении о ней. Его имя все больше отстраняется от нас, становится призраком прошлого века.
Но это, поверьте, печаль иной утраты.
А пока. Пока под строчками Батюшкова мог бы подписаться весь противоречивый русский символизм…
Есть особая тоска в сонном замкнутом круге – тоска несбывности. Как часто поэзия начала Х1Х века принимала облик средневековой куртуазности – стоит вспомнить хотя бы Василия Пушкина или «ремесленический» спор о русской словесности. Как часто новая эпоха прибегает к буре в стакане воды!..
Не избежал этого и Батюшков – и написал «Видение на берегах Леты»…
Он делает тот же шаг, что и Гельдерлин – бежит в Элладу, создает особый миф о поэте-эпикурейце. Друзья его называют нежно: наш Ахил. То его домом, уставшим от Афин, становится древний Рим, и поэт играет Тибулла. То он становится древним скальдом или мчится в Освобожденный Иерусалим, созданный Торкватом Тассо. Его цвета – изумрудный и пурпурный. После «черного» Радищева это кажется особым откровением и мистикой…
С именем Батюшкова наш литературовед связывает одно известное высказывание Пушкина; не удержимся и мы: «Главный порок в сем прелестном послании – есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями подмосковной деревни».
«Деревенский Парни» – и ведь это не стилистический изыск, не проблема языка и слога. Это проблема мифа.
Что такое мир Батюшкова – подмосковный двор, уставленный греческими и римскими статуями; откуда такой мир? Оправдан ли он?
В свое время Ян Парандовский заметил, что обилие «винограда любви» в романах Стендаля есть отображение его скудости в жизни писателя. Возможность «достраивания» себя в слове прекрасна сама по себе – дает поэту возможность жизни, пусть и виртуальной.
«Деревенский» Батюшков был слаб – за ним гнался призрак его сумасшедшей матери, и в конце концов настиг его. Его жизнь была полна неурядиц и однообразия – разве что война 1812 года всколыхнула его. Он ждал от жизни динамики, движения, подчас гвардейской удали – но «ввиду болезни» эту свободу он обрел только в «общении с историей», оживляя давно уже мертвых оловянных солдатиков.
Байроновский Манфред, говоривший с богами на равных, был обречен и признан сумасшедшим – и умер в своей башне. В нем тоже была тоска несбывности.
Среди древних богов Батюшков был велик – ему даже разрешалось вводить в пантеон своих друзей; здесь он чувствовал себя здоровым и независимым. Он любил этот миф, он любил свою иллюзию. Там он был волен идти в любом направлении, в то время как с 1822 года был обречен ходить по кругу.
Жизнь человека отравлена страхом. Поэт, как никто другой, ищет противоядия.
Находит ли?..
* * *
«Поэзия требует всего человека», – записал когда-то Батюшков и даже попросил о создании целой науки – пиитической диэтики – которая могла бы в самого человека проникнуть и найти в нем крылья.
Просьба эта не выполнена и по сей день. О ней, правда, помнят писатели и пытаются что-то сделать; академия же «растворила Батюшкова в Пушкине» и уже к нему не обращается более.
«Жизнь поэта не отделима от поэзии», – фраза, давно ставшая банальностью… Но ведь и предупреждал в свое время А. Камю: «Все великие истины слишком значительны, чтобы быть новыми». А потому пренебрежение к ним губительно.
Вот и поговорим – об очевидном…
Вспомним, для начала, гоголевского Собакевича, но не только его одного, а вместе с ним и все те вещи, что покоятся в его доме. Стулья, столы, диваны, колодец во дворе, забор вокруг двора – все как бы говорило, как бы кричало: «И я тоже Собакевич!..»
Ведь это так просто понять: человек окружает себя тем миром, который ему созвучен; без него человек – это обычная куча органов. Поэт ничем не отличается от гоголевского персонажа – и также окружает себя образами и идеями, которые являются его продолжением. Даже играя в поэзию, как это делали Брюсов или Северянин, он выбирает для себя созвучные же правила игры.
Комната поэта переполнена его «ликами»…
«Меня уже не переделать», – говорит любой из нас, едва оперившись и вылетев из отчего гнезда. И в этом совершенно прав: каким в детстве вылепят, таким до смерти и останешься; будешь той самой философской «данностью» и «самостийностью».
Почему же мы, так рассуждающие, вдруг решили, что с поэтом – дело особое, и его можно лепить на протяжении всей жизни? Все будет так же, как у всех. Даже переезжая из «одной» комнаты в «другую», поэт наполнит ее тем же, что и было. Чем, к примеру, была наполнена вилла Бельведер Бунина? – да бунинскими же Озерками…
Нам никогда не перепутать Пушкина и Лермонтова, Фета и Некрасова, – мы их узнаем сразу. Мы также чувствуем, что эти строчки именно Блока, а те – Маяковского. В поэзии существует особая личная магия, которая привязывает стихи к человеку, их написавшему, – не по историческому факту. Здесь нет ничего необычного. Даже если оговориться: «привязь» эта – магия мифа, личная история откровений, знамений и манифестаций.
В поэте есть нечто, которое заставляет его совершать тот или иной выбор: приближать к себе созвучное, отстранять чужое…
Я возьму свое там, где я увижу свое…
Это нечто для поэта – величина постоянная, основанная скорее на бессознательном, чем разумном, чаще на архетипе, чем на интеллекте.
Достоевский искал тайну в человеке – он искал именно эту тайну…
* * *
…В судьбе поэта существует особая магия – магия первой книги.
О ней чаще всего говорят как об исходной точке в творчестве поэта. Для исследователя, отравленного хронологией, это – само собой разумеющееся. Дальше он пойдет по проторенной тропке: развитие поэтического образа, углубление лирического героя, совершенствование языка и еще целый ряд «филологических тем».
К счастью, поэты молчат – так как умирают еще до рождения своего «биографа». Но как часто встречаются в их дневниках печальные взгляды в прошлое – там, в прошлом, было самое лучшее из всего написанного. Оговорить это лишь тоской по утраченной молодости, по «стране березового ситца» – было бы просто несправедливо. Здесь движение другое, особенное.
Первая книга есть последняя книга…
Все творчество поэта, по сути, есть единокнижие. В Европе и Америке это совершенно четко выразили Бодлер и Уитмен, в России – все тот же Батюшков, ограничив пределы своего творчества одной книгой: «Опыты в стихах и прозе».
Первая книга – это своеобразный договор поэта с современниками, в котором, собственно, и указывается знаменитое: «Кто пришел, зачем пришел?» Первая книга, еще не отягощенная ни виртуозностью, ни культурологией, ни поиском, ни философией, является в жизни поэта самой непосредственной и, как правило, самой искренней. Именно в ней собрана вся натура поэта, его бессознательное начало в выборе тем, образов, его созвучия и предпочтения.
Все дальнейшее творчество – лишь вольный пересказ первой книги.
Даже делая маленькую, но первую подборку стихов в какой-нибудь журнал, поэт отбирает не самые лучшие, но самые любимые – те, где он весь.
Первая книга становится истоком мифа…
Все творчество Блока есть его отношения с первой книгой: «Прекрасной дамой»; в 1920-х годах Есенин вернулся к своей «Радунице»; Гумилев всю жизнь оставался «странствующим и воинствующим» конквистадором; Пастернак все свои сборники избранного открывал неизменно старым «Февралем…» с его чернилами и слезами; как мечтала Цветаева вернуться в сияние своего «Волшебного фонаря»!..
Камень брошен в воду – и теперь вода живет его кругами…
* * *
Ролан Барт в своих «Мифологиях» приводит печальный пример восьмилетней девочки-поэтессы Мину Друэ – из нее был соткан миф о гениальности. Есть особая страница в судьбе поэта – это фетиш поэта; миф, совершив круг по страницам периодических изданий, возвращается обратно, благодаря публике, уже стозевным – и попросту проглатывает поэта.
Больше всего достается «гениальным» детям…
На моей памяти было два таких «детских» мифа – один связан с Никой Турбиной, другой – с Викой Ветровой. К одному мифу руку приложил Вознесенский, к другому – Евтушенко.
Отличало эту поэзию явная недетскость и особое желание смерти. Оно-то и отвечало требованиям иллюстрации детских неврозов. Барт был прав в одном: общество желало «явить гения» и гений не заставлял себя долго ждать – приходил, сотканный из чужой поэзии. Ни Мину, ни Ника-Вика не имели в своих текстах личной мифологической основы, которая бы, пользуясь словом Н. Бердяева, их объективировала. Они остаются как некий общественный миф, для которого они – лишь «детский» повод.
К слову, общественные мифы скоротечны – потому-то ныне нет о них даже упоминаний…
Впрочем, коль скоро мы заговорили о фетише, то есть в русской литературе один беспрецедентный случай – Надсон. И коль скоро мы заговорили о детстве, то заметим, что именно 24-летний Надсон был как раз помечен печатью вечного ребенка, как и его современник Артюр Рембо.
Между ними было много общего: тот и другой из всех цветов предпочитали черный, тот и другой мыкались по жизни, а потому их муза была мистически-мытарской; они оба страдали нервными расстройствами, правда, первый – наследственными, последний – психоделическими; наконец, и тот, и другой завершили свой литературный путь «самоубийством» – первого Судьба свела раньше срока в могилу, второго – отправила торговать рабами и забыть о поэзии. Ни тот, ни другой не переступили своего мифического начала.
История Надсона была печальна и всем известна:
Я рос одиноко… я рос позабытым
Пугливым ребенком – угрюмый, больной…
Детское наследство его оказалось тяжелым – смерть отца в приюте для душевнобольных, самоубийство отчима (по той же причине), безденежье, мытарство, чужой дом; болезнь легких и чин подпоручика – вот и все, что им было нажито. Об этом он и писал. Эта наивная правдивость и искренность пленяла…
Возможно, этим бы и ограничился личный миф Надсона и остался бы безыскусной историей бледного и печального юноши, а возможно и затерялся бы вовсе – сколько в России таких неизвестных надсонов: одним больше, одним меньше…
Толчком к мифу о Надсоне, его второму рождению, стали две вещи: поэтическое безвременье в России (из поэтического соцветия середины Х1Х века оставался разве что А. А. Фет) и сама смерть Надсона: России было его чрезвычайно жаль…
Тогда-то и было сказано – Надсон есть поэт нашего поколения.
Единственная книга поэта разошлась мгновенно. Как пишет Бунин в «Жизни Арсеньева», на нее даже записывались; да и сам он отмахал пешком несколько верст с единственной целью – прочесть Надсона. В жизни Бунина Надсон навеки связан с детством.
Все понимали, что в поэзии Надсона много ограниченного, банального, клишированного; что сказанное строится по принципу: «лишь бы хоть как-нибудь». Ю. Айхенвальд справедливо называет надсоновские стихи «оскорблением Аполлона»…
Но… Не текст, не стиль сделали Надсона певцом поколения восьмидесятых годов прошлого века, а тот грустный и светлый лик поэта – он стал источником мифа о Надсоне. Скажем больше – репродуктивно, Надсон стал Христом восьмидесятых…
Россия всегда гнала поэта-Христа, но потом над ним же скорбела и плакала…
* * *
На одной из научных конференций, на секции литературоведения прозвучал доклад о мифе в системе Маяковского – докладчик остановился на христоборчестве поэта и его отождествленности с солнцем. Этим, собственно, заявленная тема и исчерпывалась…
Иногда становится понятным, почему А. Ф. Лосев сокрушенно вздыхал относительно «ходячих университетских курсов» – все ограничивается лишь собранием очевидных деталей. Что же дальше?
Поэт и миф, даже в культурологическом понимании, находятся в чрезвычайно сложных отношениях уже хотя бы потому, что миф – это пра-творчество человечества. В таком понимании миф является завершенным, канонизированным; он становится историческим фактом – и важно здесь не то, существовали ли, к примеру, Крон или Геракл, а то, что они были внесены в массовое сознание.
Поэт оперирует этим сознанием – и за просто так призраков прошлого воскрешать не будет. Он станет искать тот мифологический образ, который ему созвучен. Выбор, как правило, здесь подсознателен…
Впрочем, вернемся к нашему докладчику. Он считает также, что отрекшись от Христа, Маяковский попадает в стан Антихриста. Действительно, эта антиномия ныне чрезвычайно популярна, ее вспоминают к месту и не к месту. Если будем исходить из «Краткой повести» Вл. Соловьева, то Антихриста в Маяковском… не обнаружим.
Антихрист, в отличие от Маяковского, не требует жертв. Отождествление с Солнцем и жертвоприношение есть языческий культ Ваала. Здесь, собственно, и кончается исторический миф, культурологический миф. Начинается другой – личный…
* * *
«Всякий человек может быть истолкован как миф», – писал Лосев в «Диалектике мифа». И миф здесь не историческая данность, а непосредственный процесс, действо. Судьба художника является сценарием этого действа. Именно поэтому художник так склонен к двум вещам: мистификации и манифестации. Чудесное, да и вообще чудо, формирует необходимое мифическое сознание; манифестация, высказывание, словесное изображение наполняет это сознание необходимым содержанием.
Нужно признаться, что это – самая жесткая и жестокая постановка судьбы художника, большей частью завершающаяся кругом Нарцисса – поэт становится заложником своего мифа. В этом смысле трагедия Маяковского имеет корни именно в нем; и права была Марина Цветаева, заметившая, что Маяковский-поэт убивал в себе Маяковского-человека…
Пользуясь терминологией З. Фрейда, скажем: в поэте всегда существует особое либидо – влечение к мифу. Большинство автобиографической литературы таковой совсем не является – художник поступает так же, как в свое время сделал Ж. Ж. Руссо в «Исповеди», изобразив не себя, а похожего на себя. В четырех книгах «Жизни Арсеньева» Бунин и его герой шли почти рука об руку, разошлись же на Лике. Существует, кстати, и особенность писательских писем – поэт вынужден иметь перед глазами двух адресатов: непосредственного получателя письма и «широкого читателя», к которому, по прошествии лет, это письмо попадет.
Миф здесь становится не только желанным, но и необходимым.
Есть еще один момент в теории мифа – его реальность, «непосредственная реальность». Миф лишен сказки, он не выдумка и не фикция, он не поэтичен и не научен. Такие условия существования мифа выдвигает Лосев. Именно реальность мифа как раз и не укладывается в наше привычное сознание, которое чаще всего отождествляет миф со сказкой.
Нет ничего сказочного в истории царя Эдипа; все его поступки для него же обыкновенны, разумны и реальны; он преступник поневоле. Когда ему открылось все, он пришел в ужас, ослепил себя и бросил царствование. Чем был оракул для Эдипа? Скорее всего, пользуясь терминологией К. Г. Юнга, архетипом, а вся судьба несчастного царя – бессознательным его выражением.
Нам остается лишь «наложить» судьбу Эдипа на судьбу поэта. И вряд ли подобный опыт окажется приятным.
Впрочем, наш докладчик об этой «неудобной теории» умолчал – хочется верить, что по скромности своей…
1996, январь