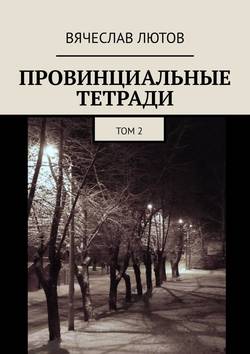Читать книгу Провинциальные тетради. Том 2 - Вячеслав Лютов - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
АНТИХРИСТ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА КАК ЖЕРТВА (1995)
Оглавление«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“… И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга» /Мат. 24.,4—10/. Кто он, этот обольститель, какова сущность его, как он обманет нас, как его узреть, как от него спастись? – вот вопросы, которые на протяжении двух тысячелетий терзают дух человека, вставшего на путь евангельского завета. Из проповеди Христовой народился антихрист – как предостережение, знамение, наказание; мы ищем «врага Христа», чтобы он не нашел нас первым…
Миф об Антихристе слишком значителен, слишком актуален для религиозного сознания, чтобы быть просто мифом – в Антихриста верят даже больше, чем в Христа; зло привлекательнее, чем добро. «Дух Антихриста» разлит по миру, сам «Антихрист грядет и другие многие антихристы появились» /1 Иоан. 2.18/. Он рождает эсхатологическую напряженность, являясь центральным звеном христианской апокалиптики. Борьба со зверем становится духовным подвигом, а потому антихристология всегда будет соподчинена религиозному мышлению. Именно это легло в основу философского завещания Владимира Соловьева.
Об Антихристе написано много, о нем говорят часто /особенно на рубеже веков/. Типологически же можно выделить «трех антихристов». Первый антихрист – библейский и святоотеческий; его черты «канонизированы» и менее всего подвержены историческим изменениям. В древней традиции антихрист обозначен двояко: как обольститель, пришедший в облике Христа, и как абсолютное зло, не прикрываемое ничем. Отец его – дьявол; явится разрушитель перед вторым пришествием Христа, и будет уничтожен Сыном Божьим /Откр. 13,2—10/. «Традиционного антихриста» нам еще предстоит рассмотреть внимательнее.
Второй антихрист – раскольничий, частный, художественный; его появление всегда экспрессивно, основано на единичных знамениях, перенесено с библейской традиции на конкретную историческую ситуацию (как это было, к примеру, с «антихристом Петром 1» и сбритыми бородами). В основе раскольничьих и индивидуальных представлений об антихристе лежит эмоция узрения: «Вот – антихрист». Личный разрушитель легко становится художественной оценкой, как у Мережковского: «Вот – антихрист, вот – Христос». Именно этот «чувственный и импульсивный» антихрист является катализатором апокалиптичных настроений.
Наконец, третий антихрист – философский, ставший одной из главных заслуг русской религиозной мысли, но вместе с тем ее «прекрасной неудачей». Этот антихрист поверяет собой, прежде всего, философию истории, социологию, этику, эстетику; он ищет там свои личины. Девиз Константина Леонтьева «Я просто хочу понять» здесь более всего уместен. «Краткая повесть» Вл. Соловьева стала ярким примером философского антихриста и до сих пор считается истинным (хотя и в художественном выражении) учением о нем. В современных представлениях именно герой Соловьева подменил собой традиционного, «канонического» антихриста, а потому с позиции традиционной апокалиптики учение Соловьева можно рассматривать как еретическое.
В чем же суть этой подмены? – вот задача нашей работы.
В 1926 году, в «Пути», Г. П. Федотов опубликовал статью «Об антихристовом добре», где подчеркнул «отсутствие в древней традиции корней соловьевского антихриста» (здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Антихрист. Антология. М., Высшая школа, 1995; в скобках указана страница) – подчеркнул и тут же оставил, сославшись на то, что «модернизм образа еще не означает его лживости» /242/. Но слово сказано и вопрос поднят – если корни не там, тогда где?.
Начнем же с внешних, сразу бросающихся в глаза, совпадений соловьевского антихриста с библейской традицией и искажений ее. Прежде всего, Соловьев основывается на том, что антихрист придет вместо Христа, на место Христа и как Христос. Сравните выписку из Ефрема Сирина, сделанную Федотовым: «Он /Антихрист/ примет зрак истинного пастыря, чтобы обмануть стадо… Представится смиренным и кротким, врагом неправды, сокрушителем идолов, великим ценителем благочестия, милостивым, покровителем бедных, необычайно прекрасным, ясным со всеми. И под всем этим видом благочестия будет обманывать мир, пока не добьется царства» /240/.
Сравните и с яркой цитатой из св. Ипполита: «Во всем соблазнитель сей хочет казаться подобным Сыну Божьему… Снаружи явится как ангел, волком будет внутри» /241/. У Соловьева также ясно сказано: антихрист будет творить добро внешнее, а не по сущности; он будет принят всеми, поскольку будет красив и приятен; он легко исправит внешность человечества и сядет на трон, как благочестивый благодетель. Совпадения здесь слишком значительны, чтобы отказать Соловьеву в традиционности.
Является «каноническим» и рождение соловьевского сверхчеловека – от женщины легкого поведения, блудницы; и «слишком много разных лиц имели одинаковый повод считаться его отцами» /117/.
Традиционно и появление «лжепророка» – в лице чудодея Аполлония – и соответствует Откровению: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним» /Откр. 19,20/.
«Имперский храм» также имеет традиционное местоположение – Иерусалим; и здесь, в Иерусалиме, антихрист будет обличен. Также сказано, что антихрист не сможет исповедовать Христа, а захочет себе величия вместо Бога.
Искажений библейской традиции в тексте Соловьева гораздо больше. Г. П. Федотов таким внешним искажением считает подмену пророков Еноха и Илию апостолом Петром и апостолом Иоанном, а также появление «третьего лица» – Павла (доктора Паули) /239/. Впрочем, это искажение вполне объяснимо идеей Соловьева о вселенском единении Восточной и Западной церквей. Упущены Соловьевым и упоминание о числе зверя и начертания его на руке.
Гораздо важнее другие видоизмененные детали. Прежде всего, Соловьев в своей повести не выполняет ни одного знамения пришествия антихриста: вместо падения римского самодержавия, он пишет о едином государстве под властью римского императора. У Златоуста сказано: «До тех пор пока римской власти будут бояться, никто не покорится антихристу. Когда же власть разорится, нападет антихрист на безначалие и будет пытаться похитить человеческую и Божью власть». Далее, по Златоусту, следует, что антихрист выступит не создателем обновленной римской монархии, а разрушителем ее» /43/.
Не выполняется и пророчество о близости конца света через торжество Евангелия на земном шаре. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» /Мат. 24,4/. На момент царствования соловьевского антихриста само христианство, как православное, так и католическое, находилось в бедственном положении: сильно уменьшилось численно, хотя и выиграло качественно; папство было изгнано из Рима; православие обновилось староверами и т. д. Торжественной проповеди среди всякого рода и племени не было. Единение христианской церкви произошло не до прихода антихриста (как указано в традиции), а после его пришествия. На основании этого можно сказать, что герой Соловьева – «лже-антихрист», так как знамения истинного его пришествия не состоялись.
Для нас интересна и та деталь, уже упомянутая, что на право быть отцом грядущего человека претендуют слишком многие. Нет лишь одного «отца» – сатаны, кровь которого, согласно святоотеческой литературе, должна течь в антихристе. В соловьевского героя дьявол входит много позднее его рождения – это значит, что большую часть своей жизни (а не три с половиной года царствования) антихрист Соловьева антихристом не был.
Совпадения и разночтения соловьевского героя с традицией заставляют перевести поиск из сферы религиозной в этическую (как это сделал Федотов) и антропологическу (как это сделал бы Достоевский). Концепцию антихриста у Соловьева Федотов определяет следующим образом: «Дело антихриста совершается в форме служения добру» /238/. Антихрист Соловьева – «воплощенная добродетель, даже христиански окрашенная, хотя и в корне погубленная отсутствием люби и непомерной гордыней» /239/. Далее Федотов доказывает, что именно добродетельности и нет в традиции.
Библейский антихрист творит добро и обещает благоденствие, отлично осознавая, что это ложь и обман; добро у него нечто вроде блестящего фантика, привлекающего доверчивого покупателя. Антихрист совершает только зло, и даже «одеяние святости» служит ему как инструментарий; антихристу недоступно сомнение, саморефлексия, чувство тоски и грусти; его лицемерие всегда оправдано безжалостной целью, оно не бывает стихийным или случайным. Этих черт герой Соловьева лишен. И если природа антихристова добра достаточно выражена у Федотова, то его психологическая природа как человека не замечена совершенно или представлена схематично.
На фоне «антихристова добра» и «святого сатаны» у Федотова несколько раз проскальзывает предчувствие, что «неправильность» соловьевского антихриста в том, что его герой не столько обманщик, сколько самообманщик; он не столько обольститель, сколько обольщенный, а потому соловьевский антихрист должен быть прочитан не в действительном залоге, а страдательном. Ключевое отличие от традиции природы, «нутра» героя Соловьева в том, что ни у Святых Отцов, ни в Священном Писании нет той идеи, что антихрист родится «по недомыслию», что он будет творить свое антихристово добро «сам того не ведая»; «нет и намека на искренность его добродетели, на самообман последнего обманщика», – завершает свой обзор традиционных текстов Федотов /241/.
И не предпринимает главного шага – нарисовать психологический портрет соловьевского императора, проверить его антропологически, как по детектору лжи.
«Он верил в добро, Бога, Мессию, но любил только самого себя» – вот исходная психологическая установка героя повести. Сам Соловьев выделяет курсивом «верил» и «любил». Эта простая и ясная фраза обросла всевозможными истолкованиями – и основным искажением ее смысла стало использование ее как доказательства антихристова лицемерия. Между тем, совершенно очевидно, что любить – это одно, верить – это другое; это два различных действия. Когда ненавистник притворится, что любит, а атеист – что верит, это и будет лицемерием. Себялюбие и самолюбие не являются также достоянием только антихриста, как об этом говорит А. Мацейна в «Тайне подлости», и уж тем более не является его знамением. В конце концов, в Христа верят многие, но любят избранные. В этом смысле почти любой из нас подходит под формулу Соловьева – для того, чтобы быть антихристом, достаточно быть человеком. Еще раз повторимся: Соловьев наградил своего героя обыкновенным человеческим правом верить в Христа и, одновременно, любить самого себя.
«Он признал себя тем, чем был Христос», искренне поверил, что он не просто спаситель и исправитель человечества (наш герой мнит Христа своим предтечей), но и «призван быть его благодетелем». Кого здесь конкретно обманывает соловьевский антихрист? – только самого себя. Истинному антихристу обманываться незачем, он изначально выступает противником Христа и сыном сатаны, он наделен знанием об этом, а не примериванием чужих одежд. В нашем же случае – самообман, самообольщение, впадение в прелесть, «интеллигентский героизм» (если пользоваться термином С. Булгакова). Соловьевский антихрист мнит себя вселенским учителем, героем, тем, кто знает средство, как достичь общего благоденствия. Нового открытия для человеческой природы здесь нет – можно вспомнить для примера судьбу Гоголя, чрезвычайно яркую, но далеко не единственную.
«Он возненавидел Христа… поставил себя выше его… он считал себя грядущим и пришедшим». На языке психиатров это называется манией величия, и в любой психиатрической клинике найдется хотя бы один «Христос». Никто не запрещал, к примеру, Маяковскому называть себя богом, Бальмонту – Солнцем, Ницше – Антихристом; но ведь и никто не признавал за ними «законного антихриста». Мы, вернее всего, имеем дело с гротеском человеческого воображения, где «все глядят в наполеоны». Соловьев, внимательный читатель Достоевского, в какой-то мере «антихристализировал» дрожащую тварь Родиона Раскольникова. Естественно, такого контекста традиция не предполагала.
Самовозвышение нашего героя обернулось для него приступом ярости (очень близким, кстати, с автобиографическим случаем выбрасывания икон из окна), сменившейся приступом жгучей тоски. В судьбе «канонического антихриста» такой психологической сцены, как раздумья у обрыва, принципиально быть не могло. «Нестерпимая тоска давила его сердце, – описывает своего «сверхчеловека Соловьев. – Вдруг в нем что-то шевельнулось: «Позвать Его, спросить, что мне делать? И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ» /114/. Соловьевский антихрист, таким образом, призывает Христа в советчики – и Христос, кроткий и грустный, приходит к нему, «горделивому праведнику»…
Дальше ситуация разворачивается по-базаровски: «Он меня жалеет… Нет, никогда!» Самолюбивый страх сделаться смирненьким, из гиганта превратиться в пшик, думать, «как бы умереть достойно», – так начинает раскручиваться маховик гордыни. Гордыня превращает веру в ветошь – и наш герой уже не верит в воскрешение Христа, ибо осознает над собой Его силу.
«И он бросился с обрыва…»
Позволим себе игру условностей – оборвем рукопись Соловьева, бросим его героя на острые камни: пусть умрет. Какова была бы оценка такой повести? Возможно, назвали бы ее сентиментально-клиническим случаем самовозвышением человека и трагедией его; можно назвать и гротеском индивидуализма; можно обнаружить ницшеанские нотки и т. д. Гора родила мышь – и мы можем лишь пожалеть «гениального человека», «сверхчеловека», изъеденного собственным самолюбием. Если и говорить о глубинных деформациях традиционного образа антихриста, то вот одна из них – Соловьев очеловечивает антихриста. Дьяволочеловек, как это заявлено в традиции, становится под пером Соловьева просто человеком и несет в себе не эсхатологическое зло, а частный порок. Наш герой, стоящий на обрыве, – несчастный человек, доведенный своим ожиданием до отчаяния (Соловьев многократно говорит, что его герой ждет – это одно из основных его действий до царствования). В этом состоянии от так же легко отрекается от Христа, как и бросается с обрыва.
«Но какая-то сила отбросила его назад».
Природа этой тайной силы, между тем, совершенно очевидна и в ней нет ничего неопределенного – нашего героя подобрал сатана. В своем дьявольском монологе ночной «неведомый» гость внушает ему, что «тот нищий, распятый – мне и тебе чужой… делать твое дело во имя твое… прими дух мой…» /115/ Делает сатана и признание: «Я бог и отец твой». Сатана ждал тридцать лет и три года, чтобы наконец открыться «сыну» и отдать ему дух свой. А потому он не родитель, а «переродитель» нашего героя. «Уста сверхчеловека разомкнулись, два пронзительных глаза совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него и наполнила все существо его» /115/.
Следующий же день следует считать днем рождения антихристова добра – первые страницы знаменитого сочинения «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию», книги, которая станет «всеобъемлющей и примиряющей все противоречия». И здесь интересна одна деталь: «Посетители и даже слуги были изумлены его (нашего героя) особенным, каким-то вдохновенным видом» /115/. Эта вдохновенность и настораживает – слишком легко писалась книга, слишком одержим идеей всеобщего блага был ее автор и потому вряд ли отдавал себе отчет в том, что именно он пишет. Традиционному антихристу вдохновенность не присуща, ибо, как писал св. Кирилл Иерусалимский, он (антихрист) будет иметь ум крутой, безжалостный, кровожадный, холодный. Одержимость добром, даже если оно и «не по сущности», – еще одна деформация традиционного образа антихриста (это подробно рассмотрено у Федотова).
Встреча у обрыва и ее последствия иллюстрируют не столько природу антихриста, сколько человека, соблазненного дьяволом. Сатана вошел в соловьевского героя, разлил в нем свое ледяное семя, подобно тому как Снежная королева заронила осколок льда Каю в сердце. «Сверхчеловек» из краткой повести оказался для духа дьявола наиболее привлекательным: с одной стороны, ум его был велик и возможности огромны, с другой стороны, в силу своего самолюбия и непомерной гордыни он оказывался дьяволу достаточно податливым. Ночной разговор у обрыва переиначил судьбу нашего героя. Все дальнейшее они творили уже вместе – один руками другого.
И если мы признаем это, тогда будем обязаны допустить следующую мысль: герой Соловьева – не антихрист, не утробный сын дьявола, не пришедший согласно знамениям, а соблазненный дьяволом, жертва сатаны, человек, одержимый бесами. Так, по меньшей мере, следует из психологических обстоятельств восхождения антихриста Соловьева, а не из привычной традиционной схемы, которая намечена здесь лишь пунктиром. Признание жертвенности героя уводит всю концепцию антихриста Соловьева не просто в сторону от библейской традиции, а идет ей наперекор. Антихрист как жертва должен быть не только помилован, но и взят в Царство Небесное именно как жертва – вот и центральное несоответствие соловьевского антихриста библейской традиции.
К концепции антихриста Вл. Соловьева приложима не только выделенная им поговорка «Не все золото, что блестит», но и старая русская отговорка «Бес попутал». В «Краткой повести» произошло наложение друг на друга двух семантических рядов: первый связан с библейской трактовкой антихриста как обольстителя, внешних его проявлений, знамений, царствования и финала; второй же – с трагичной историей соблазненного сатаной человека, и в этом смысле самым близким нашему герою по духу станет Фауст (кстати, в древнерусской литературе сюжет соблазнителя и соблазненного – один из любимых, ярче всего – в повести о Савве Грудцыне). Результатом этого наложения стала не «модель» антихриста, а оправдание его, точно так же, как Жуковским был оправдан Агасфер, а Леонидом Андреевым – Иуда. Антихрист Соловьева вызывает жалость, причем, совершенно в духе Достоевского: «Распни его, судия, а после пожалей…» Поэтому можно признать справедливым замечание Федотова, что Вл. Соловьев остался заложником Х1Х века. Да, но мы-то, на излете века ХХ-го, оказываемся заложниками как раз соловьевского антихриста!..
Что-то мешает нам трезво смотреть на нашего героя (в приведенной антологии статей об антихристе в наибольшем подчинении к соловьевскому мифу оказался А. Мацейна) – мы упорно продолжаем называть этого героя антихристом, согласно названию, хотя на всем протяжении повести, до узрения антихриста Иоанном, Соловьев именует героя как угодно, но только не антихристом. Если это обыкновенное лукавство философа, тогда все ясно; если это композиционное решение – «фигура узнавания» – тогда тоже все объяснимо. Но допустите, что в своем завещании Соловьев оставил нам сомнение – антихрист ли, или похожий на антихриста? Того ли так схематично казнили в финале?
Наконец, не окажется ли, что мы примем за разрушителя несчастного человека, пусть и «приютившего в себе дьявола», в то время как истинный антихрист будет стоять у нас за спиною?..
1995