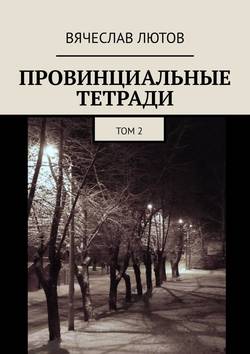Читать книгу Провинциальные тетради. Том 2 - Вячеслав Лютов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ПРОПИСКА АНТИХРИСТА
Москва или Петербург? (1996—1997)
Оглавление«Слышите, что антихрист грядет
и другие многие антихристы появились…»
Иоан. 2. 18.
И царь смотрел; и, окружен
Толпою льстецов, смеялся он…
Лермонтов.
* * *
Начинаю новый год так же, как и прежний, – с воспоминания об одной беседе, споре вокруг метафизики Петербурга, одного из самых любимых моих городов. Вот и эти заметки – своего рода письмо другу, письмо вдогонку тому разговору под водочку.
А он, надо сказать, вышел шумным – да и как иначе могла бы кружиться в воспаленных мозгах идея об антихристовом начале Петербурга, о его «проклятости», «православной ущербности», о его образе «гнилого места», пропитанного «эстетикой чухонской деревни».
Что ж, друг – это уже традиция, причем, традиция классическая, нашим веком лишь интерпретируемая; она уже узаконена и прекрасно проиллюстрирована Н. Анциферовым в его «Душе Петербурга». Но у меня насчет этой темы есть целый ряд сомнений. Во-первых, она мне представляется слишком узкой и в основе своей неверной: выводить из художественной экспрессивной топографии антихристовость города равносильно приказу копать от забора и до обеда. Петербургская топография при всей своей эмоциональности совсем не доказывает появление Антихриста в Петербурге.
Во-вторых, историческое пространство Антихриста гораздо шире, нежели историческое пространство Петербурга; этот город, возможно, опечатан печатью Антихриста, но это еще не значит, что она не может быть снята (хотя бы по сроку давности).
В-третьих, «душа антихриста» не может быть привязана к кому-нибудь определенному месту, как бычок к привязи – это душа кочующая; и уверены ли мы в том, что «змей из колена Данова» до сих пор опутывает Петербург?
Наконец, культурологическое восприятие Петербурга как града антихристова есть восприятие частно-поэтическое, ставшее стереотипом; да и возраст этого восприятия не слишком велик – каких-то сто лет. Потом, мы ведь отлично знаем, что уж кому-кому, а поэту и художнику доверять не стоит; следуя за ними (только за ними), мы совершаем грубейшую ошибку – мы смотрим на Антихриста эстетически вместо того, чтобы смотреть на него как положено: религиозно…
Впрочем, я постараюсь изложить тебе свои мысли по порядку, насколько это возможно для частного письма.
* * *
Когда мы обсуждали тему, то уже изначально выбирали неверный ракурс – нашей отправной точкой был Петербург; де-факто. Ты спросил от меня петербургские заметки, а мне почему-то хотелось говорить о Москве. Мы с тобой были похожи на ребенка, перед которым несколько бусинок, блестящих и прекрасных, – он пытается из них что-то сделать, но у него нет одной мелочи – нитки.
Так и мы, обсуждая о Петербурге и Москве, позабыли самого антихриста и суть его истории. Я это понял, когда принялся писать вторую тетрадку своего «Философа», как раз посвященную Антихристу и русской антихристологии.
Говорили мы и о том, что необходимо посмотреть – есть ли знамения Антихриста, хотя бы по Стефану Яворскому, в истории и эстетике Петербурга? Теперь и это кажется мне ошибочным, вернее, не обязательным. В эпиграф я не случайно поставил ап. Иоанна, хотя есть и другие, более точные определения Антихриста. Суть в том, что «многие антихристы появились» – они уже есть.
Они занимали города и до Москвы, и тем более до Петербурга; а потому сам Петербург – лишь один из антихристова ряда. А потому нам, даже любящим Северную Пальмиру, следует отказаться от ее исключительности; на Петербург стоит хотя бы раз посмотреть как на город обыкновенный. Обыденный, как на любой другой.
И еще. Gemus Loci Петербурга, дух-хранитель места, дух Антихриста – совершенно разные вещи; они не могут быть отождествимы, хотя у них может быть точка пересечения.
* * *
Итак, Антихрист. Библейский Антихрист.
Основное значение имя Антихриста – «противник Христа», «человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею». /2. Фесс. 2.3/.
У ап. Иоанна: «Антихрист – этот тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос» /1. Иоан. 2, 22/; «Антихрист – это тот, кто не исповедует Иисуса Хриса, пришедшего во плоти» /2 Иоан. 1,7/; «Антихрист – тот, кто отвергает Отца и сына» /2. Иоан. 2, 23/.
«В храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» /2 Фесс. 2,4/ и его пришествие «будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением» /2 Фесс. 2, 9—10/; «и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга» /Матф. 24, 10/.
В Евангелии от Марка читаем: «Если кто вам скажет: „вот, здесь Христос“, или: „вот, там“ – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки» /Мр. 13, 21—22/.
Наконец существует и «этический канон» антихриста – через греховность человека: «Люди будут себялюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, непослушны родителям, неблагодарны. Нечестивы, немилостивы, неверны слову, клеветники. Невоздержанны, безжалостны. Чужды любви и добру. Предатели, наглы, напыщенны. Любящие наслаждение больше бога» /2 Тим. 3, 2—4/.
Антихрист исправит внешность их – и тем самым обольстит.
Следует помнить, что в христианской апокалиптике Антихрист занимает важнейшее место: «Он придет при кончине мира перед вторым происшествием и страшным днем праведного суда Господня» /Яворский/ – «И тогда откроется беззаконие, которое Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» /2. Фесс. 2, 8/.
Таков «библейский антихрист», и подменяет он Христа так же, как дьявол «принимает вид Ангела света» /2 Кор. 11, 14/.
При всей «порочности» моей выборки, все же замечу: в Новом Завете нет ни указаний на факт рождения антихриста, ни на место; это позднее сделает св. Дамаскин: «Человек народится из блуда и поднимет все действия сатаны». В Новом Завете Антихрист никак не персонифицирован, упомянуто лишь колено Даново.
Все персонификации Антихриста есть отступление от библейской трактовки – в жажде человека узреть «дух антихриста», увидеть его воочию. Само же сочетание «дух антихриста» введено ап. Иоанном /1 Иоан. 4, 3/.
Нам остается лишь примерить одежку библейского Антихриста на основателя Петербурга – она ему совершенно не подходит уже хотя бы потому, что антихрист совершает действие религиозное, в то время как Петр – действие социальное. Отождествление могло произойти лишь впоследствии какой-либо подмены в понимании Антихриста.
Я думаю, что нам незачем доказывать: антихристов Петербург или нет – в этом нет принципиальной разницы. Главное – почему этот город стал восприниматься именно так? Причем, это восприятие было сформировано задолго до того, как были вбиты первые сваи. И если мы говорим об антихристовом Петербурге, то почему бы не сказать и об антихристовом «Допетербуржье»?
* * *
Та подмена в понимании Антихриста, которая сделала возможность всех отождествлений, произошла уже в эпоху раннего христианства, когда поиск Антихриста был чуть ли не поголовным.
Можно выделить три группы персонификаций духа антихриста. Первая связана с именем Симона-волхва, сказавшего: «Я – Христос». Вторая группа – ересиархи, с Арием во главе. Это – «изнанка религии», церкви, ее ночная, чувственная природа.
Наконец, третья группа связана с именем императоров, поклоняющихся языческим богам (очень важно!) и преследующих христиан, – Нерон, Максимилиан, Юлиан Отступник. Они выполнили все условия непризнания Христа – и они стояли у власти. Восприятие их антихристами было вполне обосновано и закономерно. А вместе с ними антихристовой воспринималась и сама власть, «государство отступников».
Подмена произошла с уходом язычества в прошлое. Старые идолы свергнуты. А власть и государство так и остались «антихристовым семенем». Но теперь христиане преследовали сами себя.
Важно: Петр «преследовал христиан» – но не Христа, а потому называть его антихристом неверно. Да, бороды попам брил, земли церковные отбирал – и поделом… Знаменитый патриарх Никон «воевал» с Аввакумом, но не с Христом же! Обиженный протопоп, естественно, назвал его своего обидчика Антихристом.
В этом видоизмененном (извращенном) религиозном представлении об Антихристе и Петербург, и Москва имеют полное право претендовать на звание «града антихристова». Более того, к лику антихристовых мест можно причислить даже Киев – первые мученики христианства от язычника Владимира, Феодор и сын его Иоанн, принесенные в жертву идолам, считали Владимира Святого антихристом…
* * *
То представление об Антихристе, которыми мы сегодня оперируем, есть представление полуязыческое и полураскольничье. Эта мысль высказана еще Яворским, когда он писал свою книгу об Антихристе – против раскольников и в защиту Петра I. Поэтическое сознание, не принимающие ортодоксальное мышление, задействовало о Петербурге именно старообрядческие представления и эмоции. Не стоит забывать, что миф об антихристовом Петербурге появился лишь в николаевскую эпоху – и уж, поверь мне, виной тому не Петр I как образ Антихриста, а Николай I, которого при жизни и в глаза называть Антихристом «было неосмотрительно»…
У русской церкви, равно как и у русской литературы, есть одна, возможно порочная, страсть – влезать в дела государства, «совать нос» в «царство кесаря». Это считается нормальным. Обратное же движение – когда государство вмешивается в дела церкви – является чуть ли не оскорблением. В подсознании сразу же воскрешаются отступники, гонители, а вместе с ними – Антихрист.
Такова история монаха Самуила, что приводит С. М. Соловьев, – знаменитого автора «подметных писем», в которых Петр именуется Антихристом. Впрочем, эта история заслуживает того, чтобы о ней рассказывать отдельно.
* * *
Все началось с того, что до Самуила «дошли слухи» – де-мол, царь не настоящий, а подменный (сын Лефорта); потом монах Савва заронил: «узри антихриста». «Видишь – один владеет, патриарха-то нет, а печать-то видима: велит бороды брить». Другой монах, Никодим, инквизитор, подлил масло в огонь: «Нет, не антихрист, а разве предтеча его». Легче от этого Самуилу не стало. Вдовесок – окно в Европу, в царство папежа. «Антихрист! Антихрист» – повторит Самуил, сидя на цепи в Трегуляевском монастыре.
К счастью, прочел Самуил «Духовный Свет» и, по впечатлительности своей, переменился и «освободился от своих раскольничьих идей». Петра простил так же «по сердцу», как и Антихристом его назвал. Вернулся из странствий («Антихрист пришел! – надобно бежать в пустыню») – а жена с другим живет…
Кто виноват? Петр виноват, антихристово семя…
Суть всей этой истории – «узрение антихриста» есть дело психологическое, фрагментарное, индивидуальное; антихриста опознавала эмоция, а не разум; лик антихриста импрессионистичен, соткан из обиды, слухов, знамений и страха.
* * *
Рыская по Петербургу в поисках Антихриста, мы с тобой нынче лишь стопчем башмаки, – «трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».
У Достоевского: «Если Христову веру смешать с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства».
У Н. Бердяева: «Горе тому, кто смешает Царство Небесное с царством кесаря».
Эти разграничения не случайны. Еще Вл. Мономах за свое «Поучение» был назван антихристом – смешал княжескую власть с Христовой верой и подчинил последнюю первой. Именно «благочестивая власть» является внешним исправлением греховного человека. Но и «нечестивая власть», со своим неоправданным насилием и глумлением также воспринимается антихристовой.
Власть для индивидуального человека (не для всего народа) не от бога. Со своей личной колокольни мы можем лишь кричать что-то – никогда на Руси власть разумно не оценивалась; она «прочувствовалась»…
А потому восприятие Петербурга как града Антихристова есть только следствие. Правда, это очень яркое восприятие власти вообще как антихристова семени. И я сразу оговорюсь – я пишу тебе все же с позиции художника и поэтому раскольничествую…
Власть и есть тот змей из колена Данова…
* * *
В русском раскольничьем (художественно-экспрессивном) представлении логово Антихриста там, где власть.
* * *
«Два Рима падоши, третий – стоит, а четвертому не быти», – такова знаменитая метафизическая московская цепочка; Москва – третий Рим…
Особого предмета для гордости я здесь не вижу – и Рим, и Константинополь, а следом за ними и Москва если не опечатаны антихристом, то помечены язычеством или варварством. Священность Иерусалима им неведома.
Зато известно другое: за Москвой сохранилось прозвище «вавилонской блудницы» – антихрист-то как раз из блуда народится…
В летописи интересен комментарий к истории убийства князя Василька Давыдовым Святославичем: «И влез сатана в сердце. И стал подговаривать Давыда на убийство». Дьяволу нужна власть – и власть реальная, обыденная, ежедневная; та власть, которую мы называем аристотелевским государством – соглашением ради блага.
В Москве был «благочестивый царь» (за него даже молились: «Грехи наши должны быть безмерны, когда Небо отнимает у России такого самодержца») – кроткий и человеколюбивый Иоанн IV. Если вспомнить краткую повесть об антихристе Вл. Соловьева, то антихрист как раз царствует кротко и человеколюбиво, мудро и благодетельно – это фундамент его будущих беззаконий.
В нашем сознании почти не укладывается религиозное послушание Ивана IV – «до-Грозного»; мы привыкли к нему как к веселому изобретателю «отнятия живота» у человека. Но до 1553 года (до болезни) он следовал завету Максима Грека: «Все, что не благодетельно, не достойно царя»…
А потом «влез сатана в сердце»…
По Карамзину, сим ядом отравил сердце Иоанна коломенский епископ Вассиан: «Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться, – повелевать, а не слушаться. Тогда будешь тверд на царстве и грозою вельмож».
Коломенское стало логовом Ивана Грозного – и сейчас главной достопримечательностью этого мета является тень Грозного, и зеваки с восторгом слушают экскурсовода о злодеяниях Грозного – наслаждаются злом…
Рассказывают (наверняка) и о печальной судьбе митрополита Филиппа – когда царь вошел в церковь Успения в черной ризе со своим юродивым войском, Филипп произнес: «В сем виде не узнаю царя православного; не узнаю и в делах царства».
Если митрополит не узнал царя в царе – тогда кого же узнал?..
Кругами по воде расходились по России казни – из Москвы. Свободолюбивые новгородцы антихриста и логово его определяли однозначно.
* * *
Москва – город русский, ленивый, барский, рассыпанный пригоршнями: есть где душе развернуться; в беспорядочности Москвы ее особая красота. Нет более далеких понятий, чем Москва и служба. Суматоха и праздность Москвы совсем не сочетались с аскетическими идеалами православия. Москва – слишком мирской город.
И обмирщенность, и балабольство, и то, что «Москва зажралась» становились основой ее греховности. Пока резиденция русских царей была в Москве, и сама грешная Москва была в центре внимания.
Государственный прагматизм Петра решил дело – ему нужен был «деловой город», строгая столица, а не бабий подол. Расчерченность Петербурга есть дух петровской государственности. Скучность Петербурга (Лермонтов) стала залогом государственной службы; серость Петербурга – залогом обезличивания человека на службе. Петр отчетливо понимал, что государство есть строгий, но слаженный аппарат, не допускающий особой вольницы…
Впрочем, восхвалять русское чиновничество – занятие неблагодарное. Но и принижать его нет резона. Важно другое – как только власть перебралась в новую столицу, следом за ней перебрался и дух антихриста, как своеобразный талисман власти вообще.
Про Москву забыли – она стала обыкновенным городом…
Теперь Москва просто нравилась – своей широтой, «колокольностью», старым укладом, многочисленной дворней, ленивой безмятежностью. Что же ей еще оставалось делать? – ведь судьба России теперь решалась не здесь…
* * *
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол, —
подвел печальный итог Петербургу И. Анненский. Внутренне двоевластие Петербурга – Медный всадник и Змей – рождает его трагическую обреченность, его мистику.
Впрочем, лишь бегло: Петербург называли и градом Антихриста, и Новым Вавилоном, и Четвертым Римом, и обреченным городом, и Адом, Хаосом Невы. Его ставили вне Святой Руси, называли анти-русским городом, и тут же, напротив, Самым Русским. Особое очарование придавали четыре всадника и петербургская космография. Чаще всего Петербург отождествлялся с Гибелью и Смертью.
Разные обозначения Петербурга можно встретить в статьях К. Г. Исупова, у Анциферова и других. Но суть от этого изменится мало – во всех названиях Петербурга сквозит апокалипсическое мышление: совершена некая роковая ошибка, ответом на которую будет страшный суд.
Но знаешь, мне эта апокалиптика представляется лишь поэтическим нагромождением образов и символов, а потому имеющая ценность именно как поэзия. По большому счету все приведенные обозначения Петербурга – лишь пустой звон. К примеру, что может означать пассаж Мережковского: «Город Князя Тьмы»? Что он дает к пониманию Петербурга? Так может быть назван любой мегаполис, что, собственно, и происходит сплошь и рядом.
Другой фрагмент приведу из работы К. Г. Исупова: «О Москве говорят как о разнородно-органическом существе, о Петербурге – как об однородно-отчужденной каменной пустыне. О Москве – в интонациях нежности и благодарения, о Петербурге – как о мучительной любви. Русский характер еще раз отыскивает в Москве Эдем, а в Петербурге – Ад злокозненной неутоленности духа».
Объяснять такое сопоставление можно по-разному: на уровне мистического Логоса, на уровне евразийства и т. п. Но почему бы не допустить примитивного толкования: зависть славянофильской Москвы, утратившей репутацию «первой девки на деревне»? Главный антихристов упрек Петербургу, в принципе, сводим к тому, что в этом городе нет русского духа. Но кто установил, что в самом русском духе не может быть антихристова начала? Кто решил, что русский дух непорочен и служит единственным мерилом добра и зла?
Мне также совершенно непонятна такая ситуация. Если ты считаешь Петербург антихристовым градом, обреченным, адовым, монстром цивилизации, то почему бы просто не уехать из него? Какого черта Мережковский, ругая Петербург, жил в Петербурге? Если город слишком холоден и распахнут настежь ветрам, то почему бы не уехать, к примеру, в Сочи – там тепло и сыро…
«Мучительная любовь…»
Мне думается, что миф о Петербурге вырос из страха и ущербности человека перед властью, которая как раз и сосредотачивалась в Северной столице. Но отношения человека и власти – совершенно иные, нежели человека и города. В оценке Петербурга должны быть задействованы, по меньшей мере, две составляющие: страх перед властью и страх перед городом вообще, перед городом без имени…
Наконец, стоит заметить, что в ХХ веке, во все годы советской власти, миф об антихристовом Петербурге практически не задействовался – и совсем не по идеологическим причинам.
Освободившись от власти, Петербург освободился и от призраков Антихриста.
* * *
Мне давно нравится пастернаковское сочетание:
Искристо-серый Петербург…
Придумался даже ненавязчивый афоризм: удачная архитектура в неудачном месте…
* * *
Кризис власти породил эсхатологию города: «Петербургу быть пусту»! Три русские революции, сердце которых в Петрограде, могут быть истолкованы (что, впрочем, и делалось) как знамения пришествия Антихриста, как апокалипсис, как день страшного суда. Революция в представлениях русской религиозной философии и есть прямое действие сатаны, есть приход зверя. Невские берега стали его колыбелью. Поэтому большевизм как обезличенная квинтэссенция антихристова духа кочевал из одного текста в другой. Такая оценка революции и Петербурга вполне объяснима.
Важно другое: действительно ли вместе с революцией в Петербург пришел истинный Антихрист? Весь парадокс в том, что в октябре 1917 года Антихрист не пришел в Петербург, а ушел из Петербурга. Революция стала не гибелью Петербурга, а очищением его от Антихриста – едва только Ленин перебрался в подмосковные Горки…
Миф о Петербурге стал фактом истории. Да и наши истолкования находятся совершенно в плену XIX века и русского философского ренессанса – мы ничего нового не добавили. Разговор о Петербурге как антихристовом городе сейчас – это «поездка в карете прошлого». И любимый тобой «Петербург» Андрея Белого – лишь колесо этой кареты.
Повторюсь: советское «после-петербуржье» комплексом антихриста не страдало…
* * *
Религиозного переосмысления Москвы в советскую эпоху, естественно, состояться не могло. Знаменитый взрыв храма Христа-Спасителя иллюстрировал лишь грубую и нарочитую борьбу с религиозным сознанием. Сталин, как разрушитель Христа-Спасителя, конечно, может быть назван Антихристом. Но это не отвечает характеру эпохи – отказавшись от христианства, Россия неизбежно обрастала идолами иного, языческого, порядка.