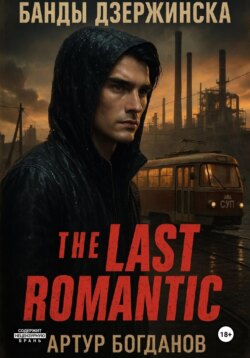Читать книгу Последний романтик. Банды Дзержинска - - Страница 2
Глава 1. Банды Дзержинска. Законы улиц
ОглавлениеЯ родился и вырос в Дзержинске – сером, дымном городе, затерянном среди лесов и промзоны. Не просто точка на карте, а крепкий промышленный узел края, где трубы заводов впивались в небо. Четыреста тысяч человек, прикованных к этим гигантам, будто каторжники. Утром серые потоки людей стекались к проходным, вечером растекались по обшарпанным дворам. Воздух густой, с привкусом химии, будто сам город медленно окисляется, как брошенный в болото гвоздь. До столицы Волго-Вятского края, Нижнего Новгорода, – рукой подать, километров двадцать.
И здесь все четыреста тысяч душ знали: жизнь – это борьба. Борьба за место, за глоток воздуха, за право быть сильнее. Особенно ярко этот закон проявился в девяностые. Страна рухнула, оставив пустоту, которую тут же заполнили те, кто не боялся крови.
Телевизоры захлестнула волна бандитской романтики – «Бригада», «Бандитский Петербург»… Но для нас, дзержинских пацанов, это была не выдумка. Это была реальность, в которой мы жили. Улицы Дзержинска стали ареной, где молодые и голодные парни мерялись силами, а слабые бесследно исчезали в подворотнях. Ветер гулял по пустырям, разнося шепот: «Кто смел – тот и съел».
Мы, выросшие среди обшарпанных подъездов и ржавых гаражей, жадно впитывали эту криминальную романтику, струившуюся с экранов. Грезились не просто деньги – власть. Власть над улицами, над людьми, над собственной нищей судьбой.
Красивые девушки в норковых шубах, машины с тонированными стёклами, рестораны, где официанты кланяются в пояс… Всё казалось таким близким. Достаточно было одного решительного шага, одного разговора по-мужски в тёмном переулке, одного нажатия курка.
А смерть? Когда ты молод, смерть – абстракция, призрачная тень за горизонтом. Сегодня ты пьёшь шампанское из хрусталя, сегодня тебя боятся, сегодня ты – царь. А завтра… Кто в молодости думает о завтра? Лучше год прожить тигром, чем всю жизнь – дворовой шавкой. Такова была эпоха. Такова была наша молодость – жёсткая, как дзержинский асфальт, и беспощадная, как зимний ветер с Волги.
В те годы город был поделён между несколькими группировками, ставшими главными игроками на этой шахматной доске:
«Кировские» – хозяева пролетарской твердыни. Их вотчина – обширный Кировский район, царство обнищавших рабочих, люмпенов и отчаянных пацанов, для которых улица стала законом. Здесь стоял градообразующий оборонный завод, чьи цеха, некогда гордость страны, теперь дышали ржавчиной и безнадёгой. «Кировские» не просто правили – они были плотью от плоти этого места. Их методы – простота и беспощадность.
В отличие от них, «СУП» – старые тени центра. Старая Правда, Урицкого, Победа – три улицы, сплетённые в тугой узел в сердце города. Здесь время текло медленнее: старые дома, узкие переулки в полумраке. Территория традиций, где уважали умение держать слово больше, чем голую силу. Но за патриархальным фасадом скрывалась железная хватка. «СУПовцы» не бросались в драку первыми, но если уж вступали – бились до конца. Их боялись за холодный расчёт и умение бить точно в цель.
Прямой противоположностью по духу были «КТР» – «Пердуны» с разрозненным фронтом. Короткая, Тарасова, Раздольная – три улицы, разбросанные по городу. Их союз казался натянутым. Прозвище «Пердуны» они получили за привычку рассыпаться при угрозе. Не славились ни храбростью, ни сплочённостью. Их сила – в умении исчезнуть, переждать бурю, вернуться, когда враги передерутся. Но даже трус имеет предел: собравшись в кулак, «КТР» бились отчаянно, пытаясь смыть позорное прозвище.
Особняком стояли «МАРК» – две стороны монеты. Малахова, Авангардный, Ромашково, Крылова. Их земли – два мира: новый микрорайон Авангардный с девятиэтажками и новенькими машинами городской элиты, и ветхие домишки с застывшим временем. «МАРК» балансировали между ними. Не такие жестокие, как «Кировские», но не позволяли унижать себя, как «КТР». Их сила – в деньгах и связях, а не в голой агрессии.
И, наконец, «Ракетчики» – маленькие, но смертоносные. Улица Ракетная – узкая, как ствол, зажатая между промзоной и свалкой. Ни богатства, ни людских ресурсов. Зато – ярость. «Ракетчики» знали, что их могут стереть в порошок, и жили по закону зверя: бей первым, бей наверняка.
Эти группировки были не сборищами пацанов, а стройными, почти военными структурами со своей четкой иерархией, законами, рангами и ритуалами. Попасть в их ряды мог любой паренёк от пятнадцати с подконтрольной территории. Но подъем по иерархии требовал не желания – крови, преданности и готовности умереть за своих.
Путь наверх начинался со дна – статуса «Огурца». Зеленый новобранец. Его обязанности суровы: дважды в неделю – обязательные «сборы» (на пустырях, в гаражах, на «коробках»), где отмечали явку и разбирали отсутствующих; регулярный взнос в «общак»; участие в «базарах» – разборках на передовой, часто с ржавой арматурой вместо оружия. Отступление от правил – пропуск, неуплата, трусость – каралось быстро и жестоко.
Следующая ступень – «Микроны». Сбросить клеймо «зелёного», доказать, что ты не расходный материал, можно было лишь испытаниями: проявить бесстрашие в схватке с превосходящим врагом; расширить влияние, приведя минимум троих новых; доказать абсолютную надежность, ставя общее выше личного. Нарушение доверия, особенно трусость или побег, каралось жестоким избиением, часто означавшим изгнание. «Микроны» имели чуть больше свободы, но до авторитета было далеко.
Значительный шаг вверх – «Малолетки». Уличные младшие командиры. Сюда – лишь по крови, доказавшие преданность в боях не раз. Освобождались от «сборов», но обязаны были быть в первых рядах в серьезном конфликте. Не платили в «общак», но получали из него помощь. Их слово имело вес: могли разнимать драки младших, вершить суд над провинившимися. Но и ответственность была серьёзней: «Малолетку»-труса или предателя ждала беспощадная расправа и изгнание.
Костяк и оперативное ядро любой группировки – «Старшие». Уже не мальчишки, но еще не «воры в законе». Парни за двадцать, часто с зоной за плечами, знавшие цену слову и крови. Именно они: вели переговоры на «стрелках», пытаясь замять конфликт до «базара»; контролировали внутренний порядок, не допуская беспричинных грабежей и бузы среди младших; распределяли средства «общака» – кому передача в зону, кому помощь после больницы. Их авторитет признавали враги. Убийство «Старшего» означало войну на уничтожение.
На вершине пирамиды власти – «Старики». Фигуры почти мифические, редко появлявшиеся на «сборах». Держали под окончательным контролем финансы «общака»: взятки ментам, помощь «сидельцам». Общались исключительно со «Старшими», через них передавая приказы и вынося окончательные вердикты. Их сила – в связях криминального мира, где слово порой значило больше пули. Решения – окончательны и обсуждению не подлежали.
Так и текла жизнь в этой параллельной реальности – от «сбора» к «сбору», от разборки к разборке. Пути расходились: одни поднимались, другие ломались и исчезали. Кто-то погибал в драках, кто-то садился надолго, кому-то везло выжить и стать «Старшим». Над всем царил непреложный закон: предательство «своих» означало изгнание. Без исключений.
Была в тех годах своя, жестокая справедливость: большинство жило одинаково бедно. Деньги – лишь у бандитов да спекулянтов, да и те жили с оглядкой, зная: сегодня в шоколаде, завтра – в земле. Мир мерился другими ценностями: Отвага – не струсить против десятка. Мужество – не сдать своих, даже под пыткой. Уважение – не купить, не выпросить, только заслужить.
И девчонки любили не за кошелёк, а за характер. За то, как парень держится в драке, как смотрит в глаза, как говорит – жёстко, без лишних слов.
Время было такое: любое утро могло стать последним. Могли посадить, могли убить в драке. И от этого чувства горели ярче. Не было зависти – у всех было одинаково: одна пара джинсов на три года, кроссовки, переклеенные «Моментом», бутылка «Рояля» на всех – и то праздник.
Вопреки мнению, дзержинские группировки не были чисто криминальными образованиями. Среди членов – отчаянные парни из рабочих кварталов, где деньги считали по копейкам. Но нередко к группировке примыкали и те, кто рос в достатке, чьи родители были инженерами на заводах. Однако социальные границы стирались во дворе. Здесь главным было не богатство, а умение постоять за себя и «своих». Группировка же давала защиту. Чем больше людей в составе – тем крепче репутация. Одиночек – презирали. Их клеймили «Быками» – позорное имя труса, неспособного жить по уличным законам. До пятнадцати нейтралитет прощался, потом наступал выбор: либо ты с «улицей», либо против неё.
Выбор был двояким.
Первый путь – отказ. Жизнь «Быка» безопаснее, но унизительнее. Максимум – отберут деньги, дадут подзатыльник, обзовут. Слухи о жестоких унижениях строптивых ходили, но лично я такого не видел. Зато видел, как над ними смеялись, толкали. Они оставались живы, но теряли уважение навсегда.
Второй путь – вступление. Это не просто гулять с пацанами, это принять их законы. Держать слово – и подтверждать его кулаками. Отвечать не только за себя, но и за улицу. Если бьют «твоего» – обязан мстить. Так и начинались «базары» – уличные войны «стенка» на «стенку».
Итак, выбор был прост: «Бык» – трус, но живой. Или «свой» – крутой, но с риском оказаться в реанимации или в гробу.
А что выбрали бы вы?