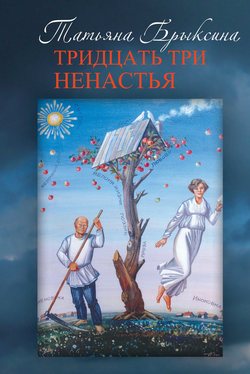Читать книгу Тридцать три ненастья - Татьяна Брыксина - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
«От Москвы до самых до окраин»
Разрешите позвонить?
ОглавлениеНа первую встречу в Литературный институт ехали и группами, и в одиночку. Большинство – на легендарном троллейбусе № 3, но кто-то и на такси. Манящая цель – кинотеатр «Россия», памятник Пушкину, Тверской бульвар, где в доме № 25 нас ждала новая жизнь, вряд ли не приукрашенная домашними грёзами провинциальных искателей литературного успеха. Студенты-очники, козырнув сидящему на постаменте Герцену, шли к главному входу. А мы, новые слушатели ВЛК – в боковую дверь левого флигеля. На втором этаже нас встречали, вежливо приглашали в аудиторию. Расселись, оглядываемся, ищем родные лица, с кем могли встречаться раньше на всевозможных фестивалях и семинарах. Увидела и я нескольких знакомцев – Сашу Родионова, Ахмата Сазоева, Мишу Андреева, Сашу Лисняка, но, главное, грузинскую поэтессу Мзию Хетагури, чуть ли не подругу по Дням Маяковского в Багдади. Радуемся своим, машем руками.
Собралось нас человек тридцать профессиональных писателей со всего Советского Союза и даже из Монголии. Зав. учебной частью Нина Аверьяновна Малюкова провела перекличку. И вошёл в аудиторию проректор ВЛК Николай Горбачёв.
– Здравствуйте, ребята. Поздравляю всех с началом учёбы. Рады? Вижу, что рады! Вам повезло успешно пройти творческий конкурс и строгий отбор. Знаете, сколько молодых писателей страны хотели бы оказаться на вашем месте? Очень много. А повезло вам. Советую не терять времени, не отвлекаться на пустяки, использовать два года в Москве с максимальной пользой для себя, для своего творчества. Вы люди взрослые, поэтому о дисциплине не говорю. Но запомните: наш распорядок обязателен для всех. Нина Аверьяновна сообщит состав семинаров, расписание, какие дисциплины будут читать уже завтра, дни выплаты стипендий и так далее. Если возникнут проблемы – обращайтесь. А сегодня можете немного расслабиться, побродить по столице, познакомиться друг с другом.
За точность сказанных Горбачёвым слов не ручаюсь, но что-то вроде этого. И я прониклась торжественностью момента, хотя думалось совсем о другом: как бы позвонить в Волгоград!
Подбежала Мзия, чмокнула в щёку.
– Увидимся в общежитии, у меня тут ситуация…
Оказалось, звонить по межгороду с ВЛК нельзя, но к нам, на ВЛК, можно в определённое время. Я записала телефон и спустилась во двор.
Народ разбредался стихийно. Побрела и я, ища, откуда бы позвонить. И вдруг около кафе «Лира» увидела переговорный пункт. Дозвонилась сразу. В Союзе писателей сообщили: Макеев жив, сегодня заходил, когда ещё зайдёт – дадим ему твой номер. Да не переживай ты так!
Но мука вчерашнего прощания не уходила из души. В глазах стоял он – растерянный и несчастный, а мне нельзя даже кинуться к нему, поцеловать в последний раз. И мгла!..
На скамейках у памятника Пушкину сидели люди, болтали о своём. Нашлось место и для меня. И вдруг я почувствовала запах Москвы. В нём мешалась лёгкая прохлада сентября, промытость тротуаров, щемящая горечь осенних цветов на клумбах. С проезжей части улицы Горького долетала выхлопная гарь летящего транспорта. Волгоградский запах был иным, более тяжёлым, что ли, более знойным и пыльным. Что же делать? Куда идти? И снова – длинная дорога в обратную сторону: улица Чехова, Новослободская, Савёловский вокзал. Теперь этот город немного и мой. Полюбим ли мы друг друга?
Василий позвонил на следующий день в минуты большого перерыва между лекциями. О-о-о! Представьте себе: нашёлся ваш потерявшийся ребёнок, и вы слышите в трубке его голос! Для меня, балды неисправимой, так всё и было. И тогда, и через десять лет, и через тридцать – лишь бы услышать его голос. Он жив – всё остальное неважно!
В сбивчивом разговоре успела спросить про путёвку в Коктебель. Он обрадовался:
– Достанешь на конец сентября – будет здорово!
Женщины в учебной части внимательно наблюдали за мной. Одна, как позже выяснилось, профессор Вишневская, тайная жена ректора Пименова, сказала с укором:
– Девочка, кто же так с мужчиной разговаривает? Тыр-пыр, тыр-пыр! Нужно мягко, томно, с ноткой каприза – пусть он там напрягается, думает, чем не угодил.
Место в Доме творчества «Коктебель» Василию дали легко – с указанием корпуса и комнаты, но платить по приезде. Былая такая практика. На всякий случай записала адрес и телефоны коктебельской администрации – для подстраховки.
– Ну, ты даёшь! – удивился Макеев. – Я и к матушке успею съездить.
– Только не забурись там! Шутка ли?
И приходит дней через пятнадцать телеграмма: «Таня, Вася улетел. Передаёт спасибо. Наташа». Я поняла: его сестра. Слава богу, не заблудился! Отдыхай, милый!
Мне бы хотелось чуть спрессовать свой рассказ, не гнать сплошняком такие разные и интересные дни сентября 1983 года, выбирать главное, но не очень получается. Одно вытекает из другого, без мелкой детали разрушается цельность. Терпи, читатель, коли взялся постигать непостижимое!
Машина идёт по дороге – может свернуть где захочет, человек шагает напролом – может и через забор перелезть, а поезд как встал на рельсы, так и катит от столба к столбу. Я, как тот поезд, хотела бы свернуть в сторону, да не могу, рельсы не дают.
Следующая веха пути: написала Макееву в Коктебель: «Если хочешь – могу прилететь к тебе на пару дней. Только отвечай побыстрее». И он ответил: «Прилетай. Купи мне спортивные трусы для утренних пробежек с Екимовым, кепку и чего-нибудь крепенького».
Билеты на самолёт – весьма терпимой стоимости. А душа рвётся, как сумасшедшая. На ВЛК соврала, что прихворнула, мол, отлежусь немного. А сама… От Москвы до Симферополя – всего ничего на самолёте, от Симферополя до Феодосии – автобус. Не ждали? А мы припёрлись!
Нет, ждали, конечно! В комнате с балкончиком, заваленным виноградом, сидели трое: Василий, Борис Екимов и поэт из Иркутска Вася Козлов. Все трое смотрели с любопытством на долговязую девицу, в тоненькой курточке с капюшоном, обмотанную поверх вязаной шалью моей соседки по общежитию Таи Шаповаленко.
С бутылкой коньяка на четверых расправились быстро, и ребята оставили нас одних…
Думаю сейчас: «Зачем летала? Что получила в ответ на нешуточные затраты душевных и физических сил?»
Отвечаю: «Успокоение! Утешение! Утоление!» А это очень много, когда женщина любит и не уверена, что любят её. Получилось, как в песне: «Два счастливых дня было у меня…»
…Перед началом лекции Михаила Ивановича Ишутина по политэкономии Нина Аверьяновна поманила меня пальцем в свой кабинет и прошипела:
– С ума сошла? А если бы с тобой что случилось, кому отвечать? Мне. Ты понимаешь, мне! – Помолчала и добавила: – Неужели так любишь? Ведь расстались всего месяц назад. Ох, Танька, хлебну я с тобой горя!
Лекции нам читали прекрасные старые профессора Литературного института. Они ещё учили и Виктора Астафьева, и Николая Рубцова, и многих, многих других, ставших гордостью русской литературы. Помнил их и Василий Макеев. Дай бог и мне всю жизнь помнить этих великих умников, добрейших интеллигентов, просветлявших нашу дремучесть: Ишутин, Зарбабов, Артамонов, Богданов, Смирнов, Вишневская, Паперный, Куницын, Кедров…
К началу ХХI века многое поменялось в Литинституте и на ВЛК. Нам стипендию платили, нынче собирают деньги с немногочисленных слушателей, способных оплачивать своё обучение. Ушли великие старики; в профессора и преподаватели выбились мои ровесники, среди которых и друзья: Таня Бек, Лариса Баранова-Гонченко, Володя Маканин. Только литературы, к сожалению, почти не стало. В том смысле, что новых имен не видно и не слышно. Нет книг. Нет сообщества.
Больше всего я любила четверги, семинарские занятия. Нам, поэтам, очень повезло с руководителями. Александр Петрович Межиров и Станислав Стефанович Лесневский порой бывали жёстки с нами, порой милосердны. Все понимали: научить быть поэтом нельзя, но можно поднять уровень понимания литературы, что уже считалось достижением. Нашумевших в российской прессе имён среди нас было мало. Может быть, Паша Калинин, Олег Хлебников, Миша Андреев. Их печатали почаще, упоминали в обзорных статьях. Хотя в своих регионах мы тоже звучали на уровне. Тот же Таиф Аджба из Абхазии! Имя Василия Макеева было многим вээлкашникам знакомо, некоторыми любимо. Вспоминая рубцовскую плеяду, называли Юрия Кузнецова и Бориса Шишаева, Виктора Каратаева и Сергея Чухина, Бориса Примерова и Василия Макеева. Я гордилась, вела сокурсников в свой «сапожок» показывать макеевский портрет и его книги.
Только Олег Хлебников сказал однажды:
– Слушай, Тань, у него такой тяжёлый взгляд, прямо волчий.
– Это он так на фотографа смотрит, а не на нас с тобой, – отшутилась я. Хотя макеевская голубоглазость не всегда бывала безмятежной. Он порой поступал жестоко, но волчьими глазами на меня никогда не смотрел.
Первые полгода ссор на седьмом этаже я вообще не помню, жили дружно, устраивали общие ужинные застолья. В таком интернационале прежде мне обретаться не приходилось, но повторяться не буду, я много писала об этом.
Дружила в основном со Мзией. Она, чудачка такая, свою комнату обустроила на манер персидского шатра: всюду органза, свечи, оранжевый тюль, ковры, восточная керамика. Я тоже немного выпендрилась – вбила в стену внушительный гвоздь и нанизывала на него черновики новых стихотворений. Попыталась из дома ковёр забрать для пущего уюта, но Василий не разрешил, мол, нечего в общежитии будуар устраивать.
Еду себе я почти не готовила – подкармливала Мзия, стряпая изумительные хачапури. Федька Камалов на домашнем мангале жарил шашлычки и тоже приглашал изредка. Кофе варил Таиф Аджба, а Коля Руссу угощал молдавскими яблоками. Это не значит, что я жила нахлебницей. Со своей стороны подкупала то колбаски, то сырку.
Обособленно от остальных жили высокомерные украинцы. Было их человек пять. Наварят борща, закроются на ключ в комнате Аллы Тютюнник и охраняют незалежность! А мы удивляемся теперь, с чего это Киев стращает Божий мир своими оранжевыми майданами?
Некоторые из вээлкашников выбрали для себя глухую самоизоляцию, жили, не заходя ни к кому в гости и не приглашая к себе – лишь вежливый кивок при встрече. Вот уж действительно – одинокие бирюки!
Яростно спорили между собой – это, если сказать помягче, «западники и славянофилы». Ультрапатриотами выступали Витька Соколов и Сашка Родионов, прозападники – ребята из Прибалтики и сторонники стихотворного урбанизма, нацеленные на серьёзное покорение Москвы. Первые не могли мне простить публикацию в «Литературной газете», мол, русским поэтам негоже светиться в «ненаших» изданиях. Думаю, они просто завидовали и ревновали к Межирову, написавшему врезку к моей публикации. Александр Петрович в самом деле очень хорошо ко мне относился, спрашивал, хватает ли денег на жизнь в Москве, не голодаю ли я. Причину межировской опеки мне открыла Нина Аверьяновна. Она видела, как в день выплаты стипендии я срывалась с лекций и бежала в продуктовый магазин на Малой Бронной, чтобы закупить продукты для Василия. В холле ВЛК, найдя картонную коробку, складывала мясо и сосиски, сыр и венгерскую курицу, тушёнку, консервы и прочее, потом летела на вокзал к поезду, отправляла с проводницей передачу в Волгоград, возвращалась на ВЛК – вся запаренная, с дрожащими от спешки и напряжения коленками.
– Успела к поезду? – сочувственно спрашивала Нина Аверьянов-на. – А сама-то как жить будешь?
Как-то погорилась она Межирову, что ребята по театрам ходят, а Брыксина коробки с едой тягает на вокзал, мужа подкармливает. Александр Петрович пару раз пересылал мне в общежитие свою продуктовую поддержку. Привозил её Володя Мухин, некогда астраханский поэт, окончивший ВЛК раньше меня. С Межировым их связала бильярдная страсть. От него я узнала мотивы столь заботливого отношения к себе бесценного Александра Петровича.
Может, и это злило наших ярых патриотов, если смотреть на ситуацию во всех прочих контекстах? Они и меня заподозрили в нерусскости.
Да, были люди в наше время! Валентин Сорокин – хороший поэт и человек, ставший проректором ВЛК после Николая Горбачёва, взял себе за правило – водить в ЦДЛ женщин-вээлкашниц. Усаживал нас за стол в «пёстром» зале, брал в буфете салатики и бутерброды, всем по 50 граммов коньяка и чашечке кофе, садился, довольный, рядом, расспрашивал о житье-бытье. Случались такие праздники, как правило, по средам. Если же он не мог лично «прогулять» нас в этот день, просил заменить себя Владимира Алексеевича Солоухина. И мы наслаждались обществом знаменитого писателя, чуточку даже наглея – просили ещё по рюмочке коньяка. И смех, и грех! Озорства было больше, чем нужды.
А кто сейчас нас окружает? Сплошные Залупановы! Они не только тарелку щей тебе не купят в писательском буфете, но ещё и в спину кулаком долбанут, чтобы не мешалась под ногами.
О советской идеологии я не плачу, конечно, но плачу о советских людях, об устройстве писательского мира, о наших домах творчества, толстых и тонких журналах с их ощутимыми гонорарами. Дважды за год меня напечатал журнал «Крестьянка» – целым разворотом: миллионный тираж, гонорар, равный трём стипендиям, шквал писем от читателей! А на нынешний гонорар лишь башмаки и купишь, и то – отечественного производства. Путёвка в Дом творчества стоила 90—100 рублей: целый месяц прекрасного обитания, хорошего питания, общения. По всей территории стоят колышки с табличками – «Тише! Писатели работают». Господи! Даже писательские членские билеты старого образца имели солидный вид, а сейчас – пластиковые гнутики.
Учёба шла совсем не поверхностно. Каждое полугодие завершалось сдачей курсовых работ, экзаменов, письменных рефератов. На семинаре обсуждались свежие поэтические подборки. За других не скажу, но я с радостью набиралась ума-разума, писала Макееву подробные письма, сообщая, кто из «классиков» приходил к нам на этой неделе. Межиров приглашал Евгения Евтушенко, Булата Окуджаву, Юрия Кузнецова, Олега Чухонцева, Алексея Маркова, многих других. Нам было интересно, но не понравилась холодная отстранённость Окуджавы, хоть он и спел несколько песен – без задора, правда, пресным голосом. Мы-то ему не были интересны – вот в чём дело! На вопросы аудитории Булат Шалвович отвечал так, словно его принуждали к этому. Стало досадно – я очень любила песни Окуджавы, особенно «Полночный троллейбус» и «Виноградную косточку в тёплую землю зарою».
Однажды Межиров решил свозить своих семинаристов на встречу с Арсением Тарковским, жившим в то время в Доме творчества «Переделкино». Спасибо вам, Александр Петрович! Мы сидели в беседке, тепло разговаривали, читали стихи по кругу. Я тоже прочла стихотворение о своём отце. Тарковский повернулся к Межирову и сказал тихим голосом: «Интересная девочка». – «Знаю», – ответил Александр Петрович. Душа во мне захолонула от благодарной радости – хвалили меня не часто.
Станислав Стефанович Лесневский, совершенно прекрасный человек, провёз нас по всему литературному Подмосковью. Ясная Поляна, Константиново, Мелихово, Шахматово позволили прикоснуться к святой реальности русской литературы – Толстому, Есенину, Чехову, Блоку. Мы не были скоробегущими туристами с фотоаппаратами на груди, покупающими дешёвые цветные открытки. Нам позволялось причаститься осязаемой благодатью высокого слова. В Ясной Поляне разрешили посидеть на чёрном кожаном диване Льва Николаевича, в Мелихово подняться по шаткой лестнице на деревянный балкончик, где любил встречать закаты Антон Павлович Чехов, в Шахматово – обобрать промёрзшую калину во дворе местного музея. И я собирала для своего Макеева то кленовые листки, то горстку камешков. Он, тонко понимая это, восклицал:
– Неужели лист с могилы Толстого?
Пятипалая святынька до сих пор хранится у нас меж страниц первого тома собрания сочинений любимого классика. А камешки, подобранные на окском крутояре Есенина, лежат на полочке рабочего кабинета.
В издательствах и редакциях журналов встречали меня по-разному. В «Нашем современнике» Викулов напоил чаем, но откровенно нахмурился, когда я упомянула о дружбе с известным поэтом Валентином Устиновым. Он там был персоной «нон-грата». Стихи взяли, но не напечатали.
В «Советской России», где работала моя подруга Ира Дубровина, заинтересовались стихами Макеева. Я прочла «Не надо плакать о былом», и редакция выразила готовность издать его книгу. Я так обрадовалась, что о себе и речи не повела.
В «Советском писателе» приняли к изданию рукописи моей книги «В ожидании грома». (Первоначальный вариант названия «Русый день» отклонили за простоватость.) Невероятно! Владимир Семакин, бывший другом Фёдора Григорьевича Сухова и почитателем макеевских стихов, отнёсся ко мне по-отечески. Редактором моей книжки назначили Евгения Храмова.
В альманахе «Поэзия», где уже выходили мои стихи, Николай Константинович Старшинов привечал меня с неизменной улыбкой. Ещё бы! Он даже ночевал с Колей Дмитриевым и Мишей Зайцевым в моей волжской квартире. Это особая история.
Они приехали в Волжский по линии общества книголюбов участвовать в мероприятиях, посвященных 40-летию Сталинградской битвы. В горкоме партии для приёма столичных гостей мне выдали палку копчёной колбасы, баночку красной икры и бутылку коньяка. Моя подруга, Ира Кузнецова, состряпала изумительные рогалики с повидлом. Я тоже постаралась, заранее накрыла стол, подкупив много ещё чего. После нескольких творческих встреч приехали ко мне и загуляли. Всем троим мужчинам постелила на полу – других спальных мест просто не было. Напившиеся Дмитриев с Зайцевым во сне стянули на себя одеяла, а непьющий Николай Константинович зяб, свернувшись калачиком, в белых трусиках в зелёный горох. Картину эту я узрела утром и прониклась сострадательной нежностью к Старшинову. Трогательный поэт, главный редактор альманаха «Поэзия», участник войны – он всегда был мне другом, даже рекомендацию дал в Союз писателей. Потому и принимал по-родному в своём альманахе. Но сотрудник его, Гена Красников, меня не особо жаловал. Сказал, небрежно пролистав стихотворную подборку: «Больше трёх стихотворений не дадим». – «Почему только три?» – «Ты же не Сергей Есенин!»
В газете «Советская Россия» стихи взяли без церемоний и напечатали щедро, с фотографией, озаглавив публикацию «И снова душе изумленье».
В «Известиях» редактор отдела литературы, невысокий плотный мужичок лет пятидесяти, спросил, не хочу ли я составить ему компанию для посещения приёма в финском посольстве с дальнейшим продолжением мероприятия. Я отказалась, сославшись на неотложные дела. Стихи не напечатали.
Все мои товарищи по ВЛК именно с беготни по редакциям и начали свою московскую жизнь. Дорвались, называется! Успехи многих были куда круче моих.
И всё же главной проблемой первых месяцев в столице стала до-звонка до Василия. Иду по Москве и думаю, откуда бы контрабандой позвонить ему? Однажды на улице Яблочкова забрела в библиотеку, показала писательский билет, спросила: «Можно от вас позвонить?» Мне разрешили, не зная, что звонить буду по межгороду. Именно в этот час, я знала это, Вася ждал моего звонка в Союзе писателей. Услышала его голос, и душа сразу успокоилась: он жив, он трезв, он мой.
Что он мой, затаённо поверила, когда Василий согласился приехать ко мне на Новый год. Даже уговаривать не пришлось. Ноябрь зазвенел радостью ожидания. Первый снег наступающей зимы только-только закружился в воздухе, а предчувствие Нового года уже меняло ощущение жизни, отражалось в витринах магазинов, обретало запах хвои и мандаринов, блеск ёлочных игрушек и сияние гирлянд.
В этот-то час и пришла беда. На пороге моей комнаты неожиданно появилась Оля. Она не плакала, но взгляд её казался остекленевшим.
– Что случилось?
– Мамы больше нет.
– Как? Когда? Говори точнее!
– Таня, она повесилась в сарае, но даже записки не оставила.
Я закричала, замахала руками. Меня охватил ужас. Сразу вспомнилось, как на юбилее отца тётя Дуся обронила, что её зовёт дядя Миша, умерший год назад: «Иду через кладбище и слышу, как он меня зовёт…»
– Олечка, ты поплачь! Почему ты не плачешь?
– Как она могла?! Мне надо укрепляться в жизни, Серёжка в военном училище. На кого она нас оставила?
Побыв недолго, Ольга уехала, а я, как растерзанная тряпичная кукла, лежала на диване и плакала, всё это себе представляя, о многом думая. Тётя Дуся была хорошей. Значит, у неё не было другого выхода. Её сожгла тоска, одиночество в пустом доме, отсутствие рядом близких людей. Ольгу понять можно, но как не пожалеть несчастную мать, дошедшую до такого? И всё же… Ещё две сироты в семье! Хорошо, что есть крёстная. Она спасала всех, поможет и Оле с Серёжей. Все поможем по мере сил. Но как же страшно лишиться в одночасье родной матери!