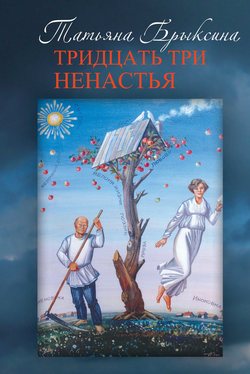Читать книгу Тридцать три ненастья - Татьяна Брыксина - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Детская горка
На приём в ночной рубахе
ОглавлениеЗаселились в гостиницу «Казахстан». Великолепно! Свой двухместный номер я делила с московской поэтессой Галиной Услугиной. Честно говоря, мы не испытывали большого интереса друг к другу, но и отчуждения не было.
Хозяева во всём старались угодить гостям, выражая тем самым не столько интерес к личностям, сколько уважение к советской литературе, её признанному значению в общественной жизни страны. Сказано витиевато, но так оно и было. Писатель – тогда звучало гордо! И началась вереница выступлений, экскурсий, творческих встреч, пресс-конференций, мастер-классов. К приехавшим подключили группу казахских писателей, среди которых радостно было увидеть моего сокурсника Улугбека Ездаулетова и казахского мэтра, известного всей стране поэта Сырбая Мауленова, с которым познакомилась ещё в Волгограде. Он приезжал в составе большой писательской делегации, подобной нашей. На одной из встреч Сырбай-ака предложил мне попробовать переводить его стихи на русский. И мы сотрудничали много лет. Переводы мои Мауленову нравились, он включал их в сборники и подборки для толстых журналов.
С Улугбеком и его женой мы посидели в скверике напротив гостиницы, весело поболтали. Я, с простой головы, предложила ему присоединиться к гостевой группе на предмет участия в вечернем банкете.
– Нет, Тань, нет! Нас строго предупредили, чтобы мы не липли к гостям, не лезли за банкетные столы. Здесь с этим чётко.
– Неужели и Мауленову нельзя?
– Мауленову, конечно, можно. Он же Мауленов! Его все уважают.
За ужином Римма Казакова, сидевшая напротив меня рядом с Константином Скворцовым, сказала:
– Татьяна, ты молодец! В твоих стихах чувствуется школа. Кто тебя пестовал?
– Да почти никто до ВЛК! Василий Фёдоров на VII совещании, Фёдор Сухов – больше своими книжками, Освальд Плебейский… Неудобно сказать, но главным учителем в поэзии считаю своего мужа, Василия Макеева. Сейчас вот – Межиров…
– Про Плебейского ничего не знаю, а Макеев как-то на слуху… Он учился в Литинституте?
– Учился в одно время с Рубцовым, Примеровым, Кузнецовым. Чаще всего его печатала «Сельская молодёжь».
– О! Я вспомнила! Это не он плеснул Егору Исаеву шампанское в лицо?
– Большой скандал вышел. Из трёх издательств разом выкинули его книжки.
– А за что плеснул-то?
– Исаев обидел Сухова. Макеев заступился: «А вы сам-то кто со своими поэмами лесенкой?» Тот обозвал Василия щенком. Ну и…
Доброе слово о моих стихах сказал и Скворцов. Сидевшая рядом со мной Услугина потеплела глазами, мол, и я того же мнения. Мелочь, а приятно! В гостиничном номере попросила почитать стихи Макеева. И я долго читала ей в темноте «Не надо плакать о былом», «Оставит мать мне тихий угол дома», «В моей крови течёт степная горечь», «Семь погод» и всё, что приходило на память.
– Прекрасно! Прекрасно! Какой поэт! И явно недооценённый… – восторгалась Галина, проливая бальзам на мою душу.
– Почему недооценённый? Все его знают… Ну, пусть не все, но поэты современные знают. Василий совсем ведь молодой, на год старше меня. Он шесть лет был самым молодым членом Союза писателей СССР, – повторяла я свой горделивый аргумент в его пользу.
– А с кем он был особо дружен, когда жил в Москве?
– С Рубцовым, с Примеровым, с Сашей Третьяковым, с Борей Шишаевым, с Геной Фроловым, да со многими… Лариса Тараканова с ним училась, Таня Смертина. Озорничал он ужасно, но его любили. Да я же, по-моему, называла их Римме Казаковой? Вы же рядом сидели! Не прислушивались? О макеевских проделках многое можно рассказать. Тут ещё и такое дело: он же мальчишкой был на своём курсе, старшие часто его подначивали, но и защищали, если в общаге поднималась мордобойная свара.
– А сейчас он чем занимается?
– Именно сейчас сенокосит у матери на хуторе, стихи там пописывает, пьёт парное молоко. Думаю, ему хорошо. После Казахстана поеду к нему в Клеймёновку. Я и сейчас душой там, около него. Это сложная тема. Знаете, мне вспомнилось сейчас, как он с Женей Маркиным летал из Москвы в Рязань – отпадная история! Если хотите – завтра расскажу. А сейчас давайте спать, глаза слипаются. Спокойной ночи.
– Сразу видно, вы любите его. Спокойной ночи.
История, обещанная в тот вечер Галине Услугиной, но так и не рассказанная на следующий день, такова.
Рязанский поэт Евгений Маркин, окончивший Литинститут ещё до Макеева, всякий раз, наезжая в Москву, забредал на Тверскую, 25, или в студенческую общагу – повидаться с друзьями. А тут и повод значительный: получил в «Советском писателе» гонорар за книжку «Стремнина». Гонорар большой. Егор Исаев посоветовал ему не шататься по Москве, а сразу ехать в Рязань. Но у Маркина была мечта – пройтись хоть раз в жизни по всем питейным заведениям на улице Горького, от Белорусского вокзала до Красной площади. В безденежное время он не мог себе позволить и одного захода.
С полным карманом денег Женя Маркин зашёл в Литинститут и выкликнул Макеева с занятий, выбрав его как самого молодого и стойкого. А познакомились они и подружились в 1966 году, в дни проведения телевизионного поэтического конкурса, где абитуриент Литинститута Макеев занял первое место. Молодыми поэтами тогда считались до тридцати пяти. Маркин едва прошёл по возрасту. Как поэт он был на хорошем счету, все его знали. Тогда же Маркин познакомил Василия с относительно молодым Булатом Окуджавой. Конкурсанты были заселены в гостиницу «Москва». Именно туда Евгений привёл Окуджаву. И сам Булат, и его песни Макееву понравились. В конкурсе том, кстати, Макееву проиграл даже Юрий Кузнецов.
И вот Маркин явился, похлопал себя по карману.
– Васька, давай осуществим мою мечту! Деньжищ навалом. Ты как?
– Да обеими руками! – отреагировал Василий.
– Только договоримся так: в каждом месте пьём по одной рюмке, а то не дойдём до цели.
Сели на троллейбус и поехали к Белорусскому вокзалу. Первым было кафе «Охотник». Там закусили бутербродами с медвежатиной. Мясо хоть и жёсткое, но экзотика! Двинулись далее, позволяя себе на закуску самые изысканные деликатесы.
Шли долго. И вот финишная точка – кафе «Марс». Выпили, закусили сёмужкой. Зигзаг получился многокилометровый.
– Ну всё, Василий! Теперь я хочу домой, в милую Рязань. Ты полетишь со мной?
– Полечу.
От Москвы до Рязани в то время летали лёгкие самолётики «Пчёлка» чешского производства – без особого расписания: если набиралось на рейс не менее четырёх пассажиров. А их только двое! Что делать? Маркин выкупает четыре места, и «Пчёлка» поднимается в небо. На борту добавили ещё немного из закупленного «на всякий случай». А в Рязани… ехать некуда: Маркина выгнала жена, и обретался он на старом дебаркадере полулегальным способом. Взяли такси, поехали на Оку. Дебаркадер чуть покачивался на волне и охотно распахнулся перед покачивающимися поэтами. Переночевали на узеньких шконках, а наутро решили махнуть в Константиново: душа просила есенинских просторов и свежести. Два дня прогостили в Константиново и вернулись в Рязань, где погрустневший Женя Маркин посадил Василия на электричку до Москвы.
Дружба эта длилась бы годами, если бы не одно обстоятельство: Рязанская писательская организация под руководством Василия Матушкина исключала из своих рядов Александра Исаевича Солженицына – как злостного антисоветчика и диссидента. Нужно было стопроцентное голосование, а Маркин упёрся, сказал нет. Его сломали обещанием двухкомнатной квартиры, чем и наскребли сотый процент. Московские друзья отвернулись, не простив отступнику предательства.
Позже стали известны покаянные строчки Маркина:
Всё простит Александр Исаич,
Только подлости не простит.
…Рассказать Услугиной об этом макеевском приключении я просто не успела. С утра нам объявили, что вечером состоится приём у первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева. Женщины принялись осмысливать туалеты, а у меня самое нарядное – светлое хлопковое платье, переделанное из импортной ночной рубахи. Ушила в талии, поменяла пуговки, приспособила плетённый из шёлка поясок.
Нарядилась и пошла, уверенная, что никто не определит истинного назначения рубахи в мелкую сиреневую искорку.
Банкет оказался фуршетом – очень, кстати, изысканным и вкусным. Чёрная икра была точно! Понравился и Кунаев – высокий, приглядный, в чёрном костюме. Говорить тост и читать стихи мне не пришлось. За всех отдувалась самая знаменитая из нас – Римма Казакова.
Я заметила, что весь вечер она пристально поглядывает в мою сторону.
На лестнице, когда уходили с приёма, Римма Александровна взяла меня за локоть.
– Слышь, Тань, ты чего в ночную рубашку вырядилась?
– С чего вы взяли?
– У меня такая же, только в зелёную искорку.
– Было бы хуже, если бы обе пришли в одинаковом. – И захохотали.
А наутро всех разделили по группам и повезли в аэропорт: кому в Кокчетав, кому в Караганду, кому в Целиноград… К моему счастью, я попала в целиноградскую группу. Со мной летели ещё четыре человека. Помню адыга Исхака Машбаша и двоих ребят из «Литературной газеты» – Аристарха Адрианова и фотокора Володю Богданова. Нас встретили на новеньких «Волгах». Всю дорогу по просьбе Аристарха я читала свои и макеевские стихи вперемежку. Тогда Аристарх сказал:
– Вот бы хорошо издать книжку-перекличку: его стихи – твои стихи, его стихи – твои стихи!
Идея казалась невероятной, слишком красивой, чтобы быть досягаемой. И что вы думаете! Пройдёт больше двадцати лет, и такая книжка выйдет. Мы её назвали строчкой из стихотворения Василия «Наверное, это любовь…»