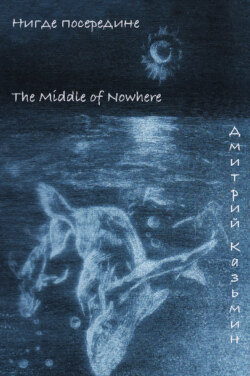Читать книгу Нигде посередине - Дмитрий Казьмин - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Россия
Любовь-морковь и все дела
Оглавление1
Потом, много, много лет спустя, когда мы возвращались к теме «кто с кем дружил и почему», Настя неизменно настаивала на том, что меня она-де, мол, заприметила ещё в первой Эстонии, положила глаз и решила для себя, что вот это – прыщавое, худое, близорукое и в растянутых трениках – это именно то, что ей нужно.
– Ну, конечно, – говорю я ей в таких случаях. – Ты просто жалостливая от природы. У тебя и с котами так же – чем уродливей и шелудивее, тем дольше ты его с рук не спускаешь. Тянет тебя на убогих.
– Не ревнуй к котам, – говорит Настя.
Я тоже, хоть в первой Эстонии её не разглядел, должно быть из-за плохого зрения, но к осени девятого класса уже сформулировал для себя, что все девочки как девочки, а вот Аська[1] – это да. Это не мешало мне влюбляться напропалую в «девочек как девочек», но и деваться мне было особо некуда – при Аське с первых же дней находился постоянный молодой человек, а я мужскую дружбу ценил превыше романтики и отбивать девушку у друга считал нижайшей подлостью. Как впоследствии выяснилось, я сильно переоценил глубину их отношений, но тогда мне со стороны казалось, что вот да – вот это любовь, вам и не снилось. И завидовал даже не берусь сказать какой, чёрной или белой, завистью, и понимал, что мне такое не светит никогда.
Масла в огонь подливала и мама.
– Скажи, Митя, вот нравится тебе (Аня, Оля, Наташа, Маша)?
– Нравится, – угрюмо признавался я, уже предчувствуя подвох.
– А это, Митя, девочка для отличников. Вот у тебя, скажем, что по алгебре в четверти выходит?
Наверное, таким нехитрым образом она пыталась подтолкнуть меня к тому, чтобы я подтянул хромающую математику, но я-то понимал, что не в математике дело, конечно. Но тем не менее я чувствовал, что какой-то диапазон возможностей есть у каждого мальчика и Аська находится явно за пределами моего.
Биокласс между тем подходил к концу. Как-то незаметно и ничем не запомнившись прошли экзамены, настал последний, выпускной вечер. Не знаю почему, но Анищина мама Екатерина Сергеевна поручила именно мне (чрезвычайно странный выбор, поручила бы Евтихину, Евтихин обаятельный) от лица всего класса презентовать Галине Анатольевне какой-то ценный подарок, судя по объёму и габаритам, не иначе как каталог картинного собрания Лувра. Я же был мальчиком стеснительным и зажатым, и вот так просто встать, взять слово, сказать какие-нибудь тёплые и непринуждённые слова и вручить подарок от всех мне было что нож острый. С этим кирпичом за пазухой я и промаялся весь вечер. Прошла официальная часть, вручение аттестатов и чествование передовиков, потом неофициальная, кажется, что-то даже пели, возможности встать и вручить появлялись и упускались, я же сидел потный и красный как рак, в обнимку с чёртовым фолиантом, и просто не мог заставить себя встать и что-то произнести. Мамочки сначала подбадривающе кивали мне с задних рядов, потом стали делать бровями вот так, потом начали настойчиво жестикулировать, а в конце концов, уже под самую завязку программы, отобрали, наконец, проклятый подарок и вручили его сами, уже, кажется, просто в коридоре, поймав Галину Анатольевну на ходу. Праздник был испорчен бесповоротно. В расстроенных чувствах я забрался в тихую рекреацию на третьем этаже и долго стоял, упёршись лбом в стекло, смотрел на начинающее голубеть небо и думал о том, какой же я несчастный, нелепый дебил и хорошо бы пришла Аська и сказала мне, что это не так. Примерно в это же время в такой же рекреации на другом конце этажа сидела Аська, точно так же сбежавшая от шумного торжества в растрёпанных чувствах, и думала о том, что хорошо бы кое-кому тоже пришла в голову идея сбежать, и именно на третий этаж. Спускались мы по разным лестницам и о совпадении узнали друг от друга лет через двадцать в случайном разговоре. Оно, впрочем, и к лучшему.
Потом мы долго не виделись; я ухитрился тяжело заболеть перед самыми вступительными экзаменами, мне было не до любовей. Поступив или не поступив кто куда, мы с уже бывшими одноклассниками стали строить планы на август. Мы с компанией мальчишек собирались поехать на Белое море с байдарками и активно планировали поход. Аська и многие другие, приближённые к внутреннему кругу Галины Анатольевны, поехали с ней в Эстонию пасти малышей из нового набора. Наша подготовка к походу шла ни шатко ни валко, кто-то, кто сначала изъявил желание поехать, отвалился, компания сужалась, маршрут укорачивался, группа разбредалась как стадо кошек, энтузиазм и напор отсутствовали, становилось неинтересно.
Момент, когда я понял, что не поеду ни на какое Белое, я помню очень хорошо. Момент произошёл на Рогожском Валу в районе Абельмановской Заставы. Я шёл к метро в направлении Пролетарской и оборачивался назад, надеясь поймать трамвайчик. На душе было скверно и грустно, и не отпускало ощущение, что лучшие годы позади, биокласс кончился, все разбегаются, дружбы рушатся, у всех своя жизнь теперь, ставшие родными рожи уплывают каждая в своём направлении, и никаких этих ниточек уже не соберёшь опять, не свяжешь из них ничего, вся ткань расползается по швам, рвётся, и вообще непонятно, как жить дальше в этом мире одному, гадость. С этими печальными размышлениями я добрёл до трамвайной остановки и уставился на фонарный столб, заклеенный объявлениями. Столб был серый, как и все другие столбы в Москве, но мне кажется, что, пройди я сейчас по Рогожскому Валу ещё раз, я его безошибочно нашёл бы среди других.
Столб спросил меня:
– А кого в биоклассе тебе больше всего жалко потерять навсегда?
И сам же ответил себе:
– Небось не мальчишек же, а Асеньку Литвинцеву, да? Признайся, ведь прав я, а?
Асенькин образ предательски всплыл на его облупленной поверхности, удачно совпав с сеткой трещин и сколов в многослойной краске. «Чёрт, – подумал я про себя, – сучий столб, какое тебе до Асеньки дело?»
– А Асенька-то в Эстонии, да… – сказал столб. – И много кто ещё из твоих.
– Ага, – сказал я. – Но что ей-то до меня? Она давно в Париже, мы снова говорим на разных языках. Ты, столб, небось хороших песен-то и не знаешь?
– Знаю, знаю, – засуетился столб. – Ещё и такая есть: когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов…
– Заткнись, – сказал я столбу, – без тебя тошно.
– А ты в Эстонии-то давненько не был… – сменил пластинку столб. – А когда-то каждое лето ездил… а там сейчас грибы пошли, маслята, и малина, и рыбалка… и Асенька неподалёку…
Я пнул его ногой.
– Ну ладно, ладно… но небось на твой старый дом-то в Эльве интересно посмотреть? Как он там без тебя? Стоит ли ещё? Может, там и комната твоя старая тебя всё ещё дожидается? А то смотри, отложится Эстония от Союза, и не попадёшь туда больше никогда. Последний шанс. И с Асенькой тоже, кстати, последний. Это я тебе точно говорю. Такие девушки неокученными долго ходить не будут.
– А чего делать-то, столб? – запаниковал я. – где Эстония, где Белое, а где я?
– Нахуй Белое, – сказал столб строго и развязно одновременно. – Беги-ка ты на Ленинградский вокзал, спроси билет до Тарту, вдруг да билеты в плацкарт на послезавтра будут? Послезавтра, запомнил?
И столб, мне показалось, покачнул лампой.
Подошёл трамвай. Я доехал до метро и, ещё сам не веря в то, что я делаю, поехал на Комсомольскую.
2
За те четыре года, что я здесь не был, Эльва сильно изменилась – это я понял сразу, как только сошёл с красненькой электрички. На пристанционной площади компания местных гопников кого-то самозабвенно избивала прямо среди бела дня – такое раньше для тихой патриархальной Эльвы было немыслимо. С местными мальчишками мы, конечно, дрались, преимущественно за права на лов рыбы в озере, но никогда не доходило до избиений – в худшем случае проигравшая сторона оставалась распутывать и связывать узелками порванные лески. Зарулив по пути с вокзала в городскую столовую – «сёклу», я встретил там знакомую семью из Москвы, и те сразу предупредили меня вести себя осторожно и с «эстошками» держать ухо востро. Они, мол, теперь не те, что раньше, и к русским сейчас отношение другое.
Бросив вещи у дяди Бори с тётей Юлей, я отправился на поиски жилья. В том доме, который мы всегда раньше снимали, на нашем втором этаже уже, конечно, жила семья отдыхающих из Питера, и я отправился вдоль по улице, стучась во все дома. В большинстве домов двери просто не открывали. Там, где открывали, отказывались говорить по-русски. В одном доме по-русски говорили хорошо и прямым текстом предложили мне (цитирую дословно) уёбывать отсюда туда, откуда приехал. В другом пригрозили спустить собаку.
Будучи ребёнком из, так скажем, пассивно-диссидентской семьи, я был вполне осведомлён об обстоятельствах присоединения Прибалтики и не питал особенных иллюзий по поводу братства народов. К тому же, живя в Эльве, я с детства имел возможность наблюдать ежегодный торжественный парад в честь годовщины вхождения в состав СССР. Выглядело это так. На каждом доме, конечно, вывешивался обязательный красный флаг, но ровно на один день. В назначенное время по главной улице проходил парад: под непременной кумачовой растяжкой вышагивало человек двадцать местных партийных функционеров с мрачными рожами. Тротуары были пустыми, не считая глазеющих приезжих. Кладбищенский оркестр заунывно тянул бравурную мелодию. Шествие не занимало и получаса – ровно столько, сколько занимает дошагать от вокзала до развилки. Речей не было.
– Мама, – спрашивал я, – а почему они такие грустные? Ведь праздник же!
– Праздник, да не их, – отвечала мама. – Пойдём, сын, нечего глазеть на это.
Хозяйка, у которой мы снимали раньше комнаты, по-русски тоже не говорила, зато, несмотря на дряхлый возраст, хорошо помнила немецкий. На прямой вопрос, с кем им было лучше – с фашистами или советами, пожилой эстонец объяснял нам, подросшим, на пальцах:
– Что вам сказать. Плохо было с обоими. Пришли немцы – увели скотину. Пришли русские – увели отца. Решайте сами.
Тем не менее местные раньше всегда охотно сдавали комнаты московским и питерским отпускникам. Эльва была популярным местом, и приезжающие приносили хозяевам хороший доход. Я, конечно, предполагал, что что-то могло и измениться, но, будучи наивен и неопытен, не думал, что исторические обиды так легко перейдут в плоскость межличностных отношений даже в ущерб материальной выгоде. К тому же я понимал, почему они могут не любить Советскую власть, но на меня-то за что собаку спускать? Я же её (власть, не собаку) тоже не люблю, и вообще всей душой за вашу и нашу свободу! Я-то здесь при чём? Так думал я, постепенно отчаиваясь найти себе ночлег в этом, ставшем внезапно таким чужим, городишке.
Дойдя до конца улицы, я напоследок постучался в крайний дом на углу, с большим тенистым садом и огромной застеклённой верандой. Дверь открыла очень пожилая женщина и жестами позвала меня зайти. Это обнадёживало – в других домах меня не пускали дальше крыльца, а то и калитки. По-русски она тоже, как и другие, не говорила, но сразу поняла, что мне нужно, подвела меня к мелко исписанному настенному календарю со снегирями, и я провёл пальцем по дням, на которые хотел бы остановиться. Она закивала и написала на бумажке сумму оплаты примерно вполовину меньше той, с которой я был готов расстаться. Я показал деньги, но она замотала головой и ткнула пальцем в последний из обозначенных мною дней. Я показал большой палец. Она позвала меня идти за ней, обошла вокруг дома, открыла дверь веранды и широким жестом пригласила войти. Это было просто фантастикой, и я не мог поверить своему везению! Веранда, остеклённая с трёх сторон, выходящая в сад, с отдельным входом, пускай неотапливаемая и даже без туалета – это было гораздо больше, чем всё, на что я мог рассчитывать. Я показал ей все большие пальцы, какие смог, и рассыпался в восторгах. Она меня, конечно, не поняла, но вручила мне ключи от веранды и от дома, показав, где в доме уборная и кухня. Я раскланялся, и, пока она не передумала, помчался перетаскивать вещи.
Первые несколько дней прошли в ностальгической меланхолии. Я бродил по старым, с детства родным местам, на озёра, которые мы называли «Купальное» (там была сделана большая дощатая купальня и имелся пункт проката лодочек), «Городское», где я однажды провалился зимой под лёд, и «Тихое» – за кладбищем, куда мы гоняли на великах ловить карасей; ходил на плотину и в лес, а однажды сел на автобус и съездил даже на Вапрамяэ, где раньше были замечательные малинники, снабжавшие нас малиновым вареньем на весь год. На удивление, безо всякой договорённости повстречал, буквально на улице, своих друзей детства, и великолепная эльвинская троица вновь воссоединилась: Ольга, Алёшка и я. На второй день собрались, как в детские времена, отметить Ольгин день рождения, но получилось всё не как в детстве: Алёшка петушился и, как и раньше, рисовался перед Ольгой – это выглядело забавно в десять лет и уже неуместно сейчас; Ольга повзрослела, оформилась, подурнела и смотрела на своих бывших верных паладинов коровьими глазами; я сидел букой, пикировался с Алёшкой за национальную политику и был самым скучным гостем на празднике. На том и расстались, чтобы в следующий раз увидеться (с Алёшкой) лет через двадцать пять, а с Ольгой (пока) никогда.
Представилась также и возможность вернуться в Москву не с пустыми руками. Однажды, когда я прогуливался по лесу, меня разморило, и я задремал на моховой кочке, а проснувшись, обнаружил, что лежу в зарослях опят, разросшихся на окрестных пнях. Поясню, что в Эльву ездили отдыхать только дети. Взрослые ездили сюда делать запасы. Отсюда возвращались с огромными баулами, в которых постукивали проложенные газетами банки с протёртой черникой, земляничным и малиновым вареньем, а из незакрывающихся молний торчали баллоны с закатанными солёными грибами. Детей, конечно, тоже привлекали к сбору даров леса. Условие было такое: по двухлитровой банке ягод с рыльца, после чего идём купаться на озеро. Так что неудивительно, что при виде опят мои рефлексы профессионального эльвинского отпускника включились на полную катушку, я снял с себя рубаху, сделал из неё мешок и насобирал опят сколько могло туда поместиться. Потом я их долго варил и солил у себя на веранде, за отсутствием банок разлив этот суп по двум большим мешкам из толстого строительного полиэтилена. Хозяйка наблюдала за моим усердием с одобрением и даже принесла в бурой заскорузлой жмене нарубленный чеснок со своего огорода – для вкуса. Вообще, относилась она ко мне по-матерински. В холодную ночь она постучалась ко мне на веранду и молча положила на кровать два толстых шерстяных одеяла. В другой день принесла транзисторный приёмник, водрузила на стол и показала, на какой волне ловится весёлая музычка. По-видимому, её тревожило, что мне здесь скучно одному. И, действительно, в какой-то момент, отдав долг ностальгии, я заскучал и понял, что оттягивать визит к Боссу далее невозможно и не по-мужски. Решив действовать, на следующее утро я сел в электричку до Тарту, побродил по такому родному и всё ещё узнаваемому центру, а после полудня сел на автобус до Пыльвы, там пересел на другой, визуально узнал место, где надо было сойти, и вскоре уже шагал мимо озера, на котором мы брали воду, через поле, в сторону хутора. Был уже вечер, смеркалось, я был голоден и очень надеялся, что каны после ужина ещё не успели помыть и мне дадут их выскрести. И, конечно, крутил в голове заранее подготовленные фразы о том, как я объясню свой визит и что я скажу Боссу.
Ну и Аське, конечно.
3
Вопреки моим худшим ожиданиям, Галина Анатольевна встретила меня спокойно, даже, я бы сказал, приветливо; накормила ужином, поинтересовалась, откуда и надолго ли я (на пару дней), и звала присоединиться к ним после окончания практики, когда они поедут в Таллинн. Было уже темно, приближался отбой. Аськи нигде не было видно, и я решил положиться на случай и не торопить события, отложив решительное наступление до завтра. Свои ребята меня встретили дружески, определили мне место в палатке, трепались о переживаниях последнего месяца, и все охотно приняли на веру мою легенду о том, что я просто отдыхал после экзаменов в Эльве, а сюда приехал исключительно пообщаться, поскольку рукой подать и грех не заехать. Один лишь Юрка Гольцев, ушлая бестия, вмиг меня раскусил и, улучив момент наедине, в лоб спросил, по чью душу я сюда припёрся.
– По Аськину, – признался я.
– А-а. Ну-ну, – сказал Гольцев.
И, подумав, добавил:
– Да, Аська – это, конечно, ангельское создание.
В последнем мы с ним, в целом, сошлись, хотя меня и покоробила откровенность формулировки, а вот это «а, ну-ну» меня насторожило. «А, ну-ну» Гольцев сказал таким тоном, каким говорят «а, ну-ну» мальчику, который заявляет, что, когда он вырастет, он станет космонавтом. В призрачности своих шансов я отдавал себе полный отчёт, но уловить косвенное подтверждение своим сомнениям из уст другого человека было тяжело. Я с душевным трепетом навёл справки о наличии конкурентов; конкурентов, по крайней мере видимых, не оказалось, и я понял, что моя жизнь продлевается ещё на один день.
Кто там был из наших, я сейчас уже не перечислю. Был Лёнечка Булыгин, был Митька Цыпин, с которым Босс поссорился, и он в итоге уехал со мной вместе в Эльву. Кто был ещё – не помню. Сидя в палатке, мы с Лёнечкой до хрипоты вели споры о том, чья любимая рок-группа круче. Лёнечка ратовал за Дип Пёрпл, а я проталкивал в короли рока свой Пинк Флойд.
– У Пинк Флойда самые потрясающие в мире световые шоу, – делился я опытом.
Незадолго до того мне подарили на день рождения билет на концерт Пинк Флойда в Москве, и я знал, о чём говорю.
– У Дип Пёрпл зато такая энергетика, они гитары на сцене разбивают, – защищал своих любимцев Булыгин.
Эти споры мне напомнили, как мы с моим другом детства Алёшей Дегтярёвым, здесь уже упомянутым, года в четыре спорили о том, какой породы вот эта собака.
– Это фукстерьер, – заявлял Лёшка со знанием дела.
– Нет, это сумбернар, – парировал я.
– Фукстерьер.
– Сумбернар.
Поскольку других пород собак ни один из нас не знал, в ход шли кулаки. Тётя Ира, Алёшкина мама, прибегала нас разнимать.
– Дети, – говорила она, – это же обычная дворняжка. Повторите за мной: двор-няж-ка!
– Фук-сте-рьер, – бубнил Лёшка, так чтобы мне одному было слышно.
И драка возобновлялась по новой.
Сейчас он профессор в Америке.
Между тем наступил и пролетел незаметно следующий день, завтрак, обед и ужин. Аська ходила с детьми по травки и, кажется, не заметила моего присутствия. Я же кружил вокруг, выбирая момент приблизиться, и чем-то эта ситуация напоминала ситуацию с подарком Боссу на выпускном. Я чувствовал, что день уходит, а с ним, если верить фонарному столбу, и мой последний шанс. Наконец, после ужина в лёгких светлых сумерках вокруг Аськи неожиданно образовалось пустое пространство, я сделал два шага вперёд и почти что против своей воли оказался с ней нос к носу, где-то между столами и догоравшим костром.
– A, – сказала Аська. – Привет. Ты откуда здесь взялся?
Объяснять у меня не было времени, и это увело бы меня в сторону от основной темы. В горле стоял ком, перед глазами плыло, и я очень отчётливо помню, что меня больше всего в тот момент беспокоило – не видно ли сквозь клетчатую рубашку, как колотится сердце.
– Давай пойдём погуляем, – выдавил я из себя, насколько это было возможно непринуждённым тоном. – Это долгая история, я тебе всё расскажу по очереди.
И приготовился услышать, что именно сегодня её Босс о чём-нибудь попросил, дал ей какое-нибудь важное поручение, у неё дела, она не может, очень сожалеет. Вообще, вот этот в тот момент сложившийся в моей голове любовный треугольник «Настя-Босс-я» просуществовал ещё несколько лет и неоднократно служил поводом для бессильной ревности и злости. Но это я забегаю вперёд.
– Пошли, – сказала Аська. – Только я кеды переодену, ладно?
И мы пошли. Гуляли мы, наверное, часа два, сидели на пригорке над озером Хурми и чесали языками. В воздухе висел густой запах болотного аира, в осоке заливались лягушки. Несмотря на то что все заготовленные темы я исчерпал с перепугу в первые минут пятнадцать, разговор как-то не затухал и, по мере того как сгущалась ночь, даже становился интереснее и непринуждённее, так что даже жалко было прерывать, и, расставаясь у палаток, мы решили, что завтра после ужина, конечно, продолжим начатую беседу.
Сказать, что я был окрылён эйфорией, – это значит не сказать ничего. Устраиваясь в спальнике, я завывал вслух «моя любовь нас приведёт к победе, хоть леди вы, а я – простой матрос», и мне очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь поинтересовался, куда это мы с Аськой пропали на весь вечер, и я бы тогда небрежно ответил: не ваше дело. Но соседи по палатке оставались нечувствительны к моему радостному возбуждению, и то ли из деликатности, то ли от толстокожести никому не пришло в голову спросить меня о прогулке. Наоборот, меня ласково попросили идти петь серенады математикам в лесу и не мешать спать. (Ребята из математической школы стояли лагерем метрах в трёхстах от хутора; мы с ними практически не общались и пересекались только у отхожего места, устроенного на полдороге между лагерями. Они считались людьми загадочными и непредсказуемыми.) Идти петь в тёмный лес мне не хотелось, и я ещё часа два ворочался, представляя себе в мыслях следующий вечер и перебирая сказанные ею сегодня слова, которые я запомнил, как мне казалось, все до единого.
Следующий день прошёл в работе по лагерю; в ботанике я ничего не смыслил, из-за близорукости все травки казались мне одинаковыми, а очков я не носил. Зато я таскал воду, рубил дрова, раздувал влажный от прошедшего дождика костёр, драил каны и, самое главное, старался почаще попадаться ей на глаза. Усердие не пропало втуне, и на меня пару раз посмотрели, и даже одарили адресной, лично мне, а не вообще в пространство, улыбкой – именно то, о чём я мечтал все эти два года и чего никогда раньше не удостаивался. Это были те самые «итого четыре знака внимания», как говорили в замечательном старом фильме. Я разомлел. Это, несомненно, была победа.
На следующее утро мы с Цыпиным уезжали обратно в Эльву.
– Казьмитя, – говорил на прощание Босс, – забирайте ваши вещи из Эльвы и скорее возвращайтесь обратно. Мы через два дня уезжаем на автобусе в Таллинн, присоединяйтесь, не пожалеете!
Упрашивать меня, конечно, было не надо. Как только Митька Цыпин, переночевав у меня, двинул в сторону Москвы, я лихорадочно собрал свои манатки, включая мешки с раскисшими опятами, расплатился с хозяйкой, в том числе и за неиспользованные дни, и рванул на вокзал. Жизнь была прекрасна, фортуна мне улыбалась очаровательными ямочками на щеках, и отвести взгляда от этой улыбки было просто невозможно.
4
В Таллинн мы действительно-таки приехали на большом туристическом «Икарусе» и расположились в пустующей по случаю летних каникул школе. Нам был предоставлен спортзал, и мы разложили рядами физкультурные маты, побросали спальники и отправились бродить по городу.
Таллинн, по тем перестроечным временам, по сравнению с Москвой оказался просто эпицентром культурного прогресса. Довольно скоро я, блуждая по переулкам, наткнулся на неприметную дверь, на которой было написано «видеозал», и, посмотрев расписание сеансов, кроме всяческих Антониони с Бергманом, обнаружил показ «Стены» Пинк Флойда, причём буквально через два часа. Естественно, я помчался обратно в школу, нашёл Лёнечку Булыгина и поволок его с собой, чтобы он воочию убедился, чем отличается гений от таланта. Видеозал представлял собой оштукатуренный полуподвал с несколькими рядами стульев и небольшим цветным телевизором. О фильме я много слышал, до дыр заслушал кассету с музыкой, но сам фильм видел в первый раз. Впечатление было просто оглушающее, и, когда я вышел на улицу, мне казалось, что мир перевернулся и никогда уже не станет таким, как был раньше. Впечатлениями необходимо было с кем-нибудь поделиться, и мы двинулись к дому. Дойдя в ранних сумерках до школы, мы обнаружили там неприкаянного Зюзника и вывалили все свои эмоции на него, подробно, перебивая друг друга, пересказав фильм эпизод за эпизодом, включая самые откровенные. Зюзник загорелся было пойти посмотреть тоже, и мы вроде бы договорились с ней пойти ещё раз и втроём, но что-то не сложилось и план остался неосуществлённым. А самого Зюзника я хорошо, фотографически, запомнил именно в этот момент, в школьном дворе, при закатном освещении, зарумянившегося, с горящими глазами, и он, Зюзник, был фантастически хорош собою.
Конечно, мне хотелось рассказать об увиденном не только Зюзнику, но и ещё кое-кому, но тут меня ожидал неприятный сюрприз.
Я в своих фантазиях, конечно, навоображал себе, как мы будем вдвоём с Аськой гулять по старому Таллинну, и какие это будут замечательные несколько дней. В действительности всё сложилось по-другому. Аська оказалась затёрта в каком-то хороводе, который кружился вокруг Босса и детей, а я же оказался несколько в стороне. Старшим, тем, которым доверяли, назначили по группе детишек и поручили водить их по городу, следить, чтобы те не разбежались и не потерялись, кормить когда проголодаются (на это были выделены соответствующие суммы), утирать носы и вечером сдавать по головам. Аська, кажется, объединила свою группу с чьей-то ещё, получился клубок из детей, Аськи и Аськиных подружек; вся эта весёлая кодла была вполне самодостаточна и в моём обществе не нуждалась. Я издали ловил её взгляд, но взгляд проскакивал как-то мимо, не задерживаясь на мне, и я почувствовал себя опять несчастным. Дружить компанией мне претило; в компанию меня, впрочем, и не звали.
У кавалера, страдающего от неразделённой любви, есть два выхода, чтобы утолить душевную тоску: начать совершать феерические безумства во славу дамы сердца или пойти и горько напиться до свинского состояния. На феерические безумства не было денег, и я решился ступить на скользкую дорожку терзающегося сердцем алкаша. Не найдя ничего лучшего, я заявился в какой-то пафосный кабак, расположившийся в башне Таллиннской крепости, и, как само собой разумеющееся, ломающимся тенорком спросил коньяку. Пухлая крашеная блондинка средних лет, обслуживающая стойку, в этот момент протирала тряпочкой бутылки на зеркальном стенде и даже не обернулась на мой вопрос.
– А сколько тебе лет, ма-альчик? – спросила она, обращаясь к бутылкам. – Паспо-орт у тебя есть?
Спиться мне, однако, было не суждено, и не только из-за возраста. До сих пор непонятно, какого лешего Аська очутилась в этом логове порока, и к тому же одна. Мне она сказала, что искала место, где бы покормить детей, и пошла на вывеску «ресторан». Я лично готов ей верить, хотя детей не помню. Я едва не подавился пепси-колой, когда она мелькнула в проёме двери; она меня заметила и подсела. Я поделился бутербродом, и мы опять разговорились. Говорили о всякой всячине, в частности, о планах на жизнь в ближней и дальней перспективе. Я к тому времени уже начал формировать в голове какую-то смутную концепцию, и эта концепция подразумевала отъезд из России, причём довольно скоро. Настя отнеслась к этой идее с непониманием и неприятием и сказала, что лично она никогда и ни за что. Я, смутившись, перевёл разговор на что-то более нейтральное, но эхо этого диалога ещё много, много лет отдавалось в нашей жизни, то затихая, то усиливаясь. Всё в итоге сложилось так, как сложилось, но иногда, оборачиваясь назад, я возвращаюсь к этому, самому первому и такому раннему, разговору об отъезде, и опять, в который раз, пытаюсь мысленно пройти по этому саду расходящихся тропок, в который постепенно превращается наша жизнь, и сверить тех, кем мы стали, с теми, кем мы были. Это нелёгкие размышления, и дело, как обычно, заканчивается коньяком. Как оно, впрочем, и началось.
Потом мы, действительно, гуляли вдвоём по Таллинну, и я поделился всеми впечатлениями от фильма, и пытался затащить и её, но она не захотела, испугавшись этого полулегального подполья. Но зато мы нашли студию звукозаписи, в которой можно было заказать самые ранние, редкие альбомы Пинк Флойда, причём записи можно было сделать как на кассеты, так и на бобины; я выбрал бобины (у меня дома был бобинный магнитофон, подключённый к хорошему усилителю с колонками), и мы ещё долго кружили по окрестным переулкам, ожидая выполнения заказа. Лет тридцать спустя Настя говорила: «Я-то думала, мне цветочки купят, а он всё – бобины, Пинк Флойд, бобины, Пинк Флойд…» На бобины, однако, были потрачены почти все оставшиеся деньги, кроме одной заветной пятёрки, которую я заначил на одно очень важное дело, потом расскажу какое. Да и что бы она делала с цветочками в спортзале?
На следующий день я проводил её и всех остальных на вокзал. Они уезжали поездом, я же, не помню почему, улетал на самолёте в тот же вечер, увозя в размякшем сердце ещё одну прощальную улыбку и взмах ладошки из окна и засунув под переднее сиденье мешки с осклизлыми опятами. Опята к тому времени приобрели густую бурую окраску. Распечатал эти пакеты я только в Москве, и только с тем, чтобы убедиться, что грибы безнадёжно протухли, и вынести их, давясь от запаха, на вытянутой руке во двор на помойку.
Встретиться в следующий раз нам было суждено только в сентябре, и это была мучительная неделя в промежутке. Телефона её я не знал, где она живёт – тоже, но зато знал, где находится биофак, куда она поступила, и в голове уже созрел план встречи. На этот случай и была заначена заветная пятёрка.
А в это время в далёкой Атланте…
Такую вот табличку мы обнаружили на внутренней стороне двери в кладовке, когда въехали в наш новый дом в Атланте, двадцать четыре года спустя после описываемых событий. Настя первая увидела и позвала меня.
– А ты понимаешь, что этот дом для нас построили тогда, когда мы только-только начали женихаться? А мы даже и не знали тогда, что для нас в Америке уже дом строят…
А три года спустя она ещё говорила:
– Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что я буду жить в Америке, работать на американское правительство, думать по-английски и у меня будет собака породы ротвейлер, я бы такого гада убила бы на месте не раздумывая.
(Ротвейлера у нас выгуливали без поводка по пустырю, через который мы каждый вечер шли со станции в Апрелевке. Это была тупая и злобная скотина, которой боялась вся деревня.)
А я, между прочим, что-то такое предполагал, тогда ещё, в Таллинне… хорошо, что вслух не сказанул…
5
План был таков: первого сентября задвинуть торжественную часть в своём институте и поехать на биофак. Мне очень живо представлялась эта картина: заканчивается приём в студенты, она спускается по центральной лестнице с новеньким студенческим в руке, а тут, внизу – я, весь такой в белом и с охапкой цветов. И она говорит: «Ах», и опять дарит меня своей замечательной улыбкой, ещё шире, чем раньше. И мы идём гулять по городу. Дальше план становился расплывчатым, но я был уверен, что прогулка получится на славу и обоим нам надолго запомнится.
Действительность, как всегда, внесла свои коррективы. Со своей торжественной линейки я действительно сбежал, рассудив, что свой студенческий получу потом в деканате, и действительно купил у метро большой букет осенних цветов, сбив цену до имевшихся в наличии пяти рублей. И таки действительно припёрся с этим букетом на биофак.
Тут я сделаю лирическое отступление. В этом нашем тандеме присутствует один серьёзный изъян, который сильно ограничивает возможности для привнесения в жизнь спонтанной романтики. Мы клинически, биологически, патологоанатомически не в состоянии встретиться в одном месте в одно время, не обговорив место встречи до двух квадратных, хорошо освещённых метров. Доходило до смешного: однажды, с полгода спустя, мы договорились пойти на спектакль в «Современник» и встретиться у колонн за двадцать минут до начала. Я пришёл, как мне показалось, первым, покрутился между колонн, не увидел её и встал около афиш, у подножия ступеней. Лестница и колонны были в прямой видимости, и я внимательно высматривал, когда она появится под ярко освещённым портиком. Настя задерживалась. Я обошёл вокруг афиш, поднялся на верхнюю ступеньку, обошёл восьмёрками вокруг всех колонн, осмотрев каждую со всех сторон. Вернулся обратно к афишам. Потом вернулся обратно под колонны. Прозвенели все звонки, площадка перед театром опустела. Потом прошло ещё минут двадцать, которые я провёл, курсируя из конца в конец лестницы. Потом я увидел её фигурку у крайней колонны. Я подбежал. В глазах у неё стояли злые слёзы.
– Ты… ты… как ты смел опоздать? Я здесь уже полчаса стою как дура, замёрзла вся… все проходят, пялятся… А ты… один раз в жизни не мог не опоздать… какой же ты… я платье новое надела, красивое… а ты опоздал… как всегда… никогда больше с тобой никуда не пойду…
И она захлюпала носом.
Идти на спектакль уже было бесполезно, и мы побрели по зимней снеговой каше в тёмные переулки, продолжая дуться друг на друга и друг перед другом оправдываться. Картина вырисовывалась такая: мы ухитрились сорок минут прятаться друг от друга между колоннами, разыскивая друг друга строго в противофазе, так что, когда один оказывался по внешнюю сторону колонн, другой жался к дверям, и наоборот. Афиши она тоже обошла, надеясь меня найти, но я, похоже, в этот момент обходил их с другой стороны. Не знаю, сколько ещё этот балет мог бы продолжаться, но в какой-то момент провидение над нами сжалилось и позволило на секунду рассинхронизироваться и встретиться нос к носу. И это не единственный случай. Настя – профессиональный ниндзя, поймать её внезапностью можно только у трапа самолёта, и только если трап один. Во всех других случаях она гарантированно выйдет из другого выхода, обойдёт какой-то ей одной известной тропой, или просто окажется, что она передумала идти и находится на другом конце города. Поэтому все попытки, например, подкараулить её с цветами утром у подъезда, проведя там предварительно всю ночь, заранее обречены на провал – просто окажется, что она в этот раз ночевала у дедушки. Это я по горькому опыту вам говорю.
Так вот, по лестнице она, конечно, не спустилась. Спустилась, зато, Таня, которая поступала на «почвы» и, как оказалось, поступила, и искренне обрадовалась встрече, так что сложилась очень неприятная и неловкая ситуация, которую мне до сих пор вспоминать стыдно, несмотря на то, что всё уже давно забыто и прощено. После короткого разговора Таня ушла, горько обиженная, а я остался в пустеющем вестибюле, незваным гостем на чужом празднике и с дурацким букетом в потных руках. Какое-то время я ещё бродил по коридорам с постепенно тающей надеждой на то, что вот сейчас она, может, вынырнет из-за поворота, но она, конечно, в это время была давно уже на площади перед главным корпусом в компании таких же счастливчиков и, конечно, обо мне не вспоминала. Настроение сделалось совсем паршивое, ненавистные цветы были закинуты в первый же подвернувшийся мусорный бак, и я поплёлся домой, проклиная свою дурацкую фантазию.
Я не помню, как и от кого я узнал-таки её телефон, но как-то узнал, и мы стали договариваться о встречах на автобусной остановке около метро Университет после окончания её занятий. Таким образом, мой распорядок дня складывался так, что я отсиживал как на иголках первые три пары, потом сбегал с последней, мчался на Университет и занимал свой пост заранее, чтобы точно не пропустить. Она обычно появлялась в компании подружек, и мы отправлялись гулять втроём, а то и вчетвером. Сначала я это воспринимал как «лучше так, чем никак», но довольно скоро стал тяготиться излишним обществом и в какой-то момент решился на прямой разговор.
– Насть, – сказал я ей, – а давай мы так сделаем, что будем гулять только вдвоём? Я, конечно, очень ценю Миру Крендель, она замечательный человек, но тебя я ценю гораздо больше, и мне было бы просто очень по кайфу, если бы ты приходила на свидания одна, без кордебалета.
Настя вытаращила глаза и долго молчала, а потом, очень смущаясь, спросила:
– Погоди, а вот это, что – свидание?
Тут уж смутился я.
– Ну, я и сам не знаю… но если посмотреть на контекст, то, в общем-то, наверное, да. Цветы, билеты в кино, бритая рожа (второй раз в жизни, но об этом я ей не сказал). Да, по всем признакам – свидание.
– Ой, прости… я как-то не поняла… я думала – это просто так, по старой дружбе…
И мы договорились называть это «свидания по старой дружбе». Но как ни крути, с Мирой у меня старой дружбы не было, и постепенно, не сразу, компания сократилась до желанного количества в два человека, точки над «ы» были расставлены, и отношения, хоть и после небольшого недопонимания, приобрели некоторую романтическую определённость. Иногда, когда выдавали стипендию, мы шли куда-нибудь в кино или даже в театр; когда стипендия заканчивалась, шли гулять просто так, хотя это было нечасто. Чаще всего у Насти были неотложные дела, какая-нибудь курсовая или много домашки, например, и тогда мы ехали к ней на Свиблово, и я часами сидел у неё в маленькой проходной комнате, играл с крысом Васькой и рассматривал в открытую дверь хвостик на её затылке, пока она склонялась над тетрадями. Хвостик был замечательный, и очень хотелось его потрогать. Училась она, как всегда, прилежно и ответственно; я же, как вы уже поняли, не учился просто никак. Мне было просто не до того. Зато я был представлен её маме, а это критический момент в отношениях с девушкой, как вы понимаете. Меня приняли радушно, и мы ужинали втроём, причём ужины всегда были вкусные и с добавкой. Я же зарабатывал себе очки мытьём посуды после ужина. Сейчас, когда у нас свои дочки на выданье, я вспоминаю житейскую мудрость Настиной мамы, и мы стараемся бойфрендов прикармливать, памятуя о том, что если вам понравился молодой человек, зашедший в гости к вашей дочери, то кормите его от пуза, и он будет приходить ещё. Пару раз в неделю Настя ездила на другой конец города ухаживать за тяжело больной бабушкой. Бабушка была лежачая, за ней требовался круглосуточный уход, и Настя ночами просиживала у неё в изголовье, подавая лекарства, подбивая подушки и помогая ей сменить позу, когда она подавала знак. Когда бабушка была без сознания или спала, я сидел рядом, и мы о чём-то часами шёпотом разговаривали при свете занавешенной настольной лампы; когда бабушка просыпалась, я уходил в другую комнату, чтобы не смущать её присутствием незнакомого человека. Таким образом, я был постепенно представлен той части семьи как «это Митя, он здесь пока посидит» и познакомился с её дедушкой Иннокентием Никандровичем, совершенно замечательным человеком, одним из самых светлых и добрых людей, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться.
Так незаметно пролетел осенний семестр, подкатила зачётная сессия, а с ней и момент расплаты за стопроцентное манкирование учёбой в течение семестра. Натурально, меня едва не выгнали, но я каким-то чудом удержался, буквально на кончиках ногтей, был допущен до экзаменов, которые сдал как придётся, и был счастлив до слёз, что хоть на этот раз не отправлюсь отдавать почётный долг родине. Стипендии меня тем не менее лишили, а вместе с ней и возможности дарить цветы и покупать билеты в кино. Настя же стала получать повышенную, так что в кино теперь водили меня, и, если не зацикливаться на том, что впоследствии стало называться «гендерными ролями», в этом тоже было что-то романтически-приятное.
6
О совершенно волшебных зимних каникулах рассказывать не буду: все две недели слились в одну кашу, и разобрать сейчас, где, когда и что произошло, уже нет возможности. Мы виделись каждый день, бродили по заснеженному Андроникову монастырю, не помню куда ещё ездили, купили на какой-то толкучке пластинку The Doors, которую я заслушал до того, что иголка начала проскальзывать, и песни эти до сих пор у меня прочно ассоциируются с запахом той зимы. Пожалуй, вот что остаётся – не сухие факты, а запах и вкус того времени, который словами как-то не очень-то и перескажешь. Почему-то нам было не скучно просто бродить по зимним улицам, а по вечерам сидеть у неё на кухне и неторопливо пить чай, грея о чашки закоченевшие пальцы. Васька ползал по мне вверх-вниз, и мой клетчатый шерстяной свитер насквозь пропах его мочой. Мы о чём-то разговаривали, за окнами темнело, наступала ночь, а разговор не прекращался. Андрюха, институтский мой кореш, выдававший себя за знойного бабника, всё допытывался у меня: ну о чём же я со своей девушкой могу так долго разговаривать? По его представлениям, не было разницы между «поговорить» и «уболтать», и он, похоже, сочувствовал мне, что мне приходится тратить столько слов на такую простую задачу. И, конечно, не верил, когда я отвечал, что мы просто говорим, потому что нам интересно вдвоём, а не потому что я ей зубы заговариваю, и обижался, считая, что я от него скрываю самое интересное. Уходить я никогда не торопился, и часто засиживался до последней электрички метро; а спустя некоторое время начал нарочно это время пропускать, чтобы потом, как бы случайно посмотрев на часы, лицемерно воскликнуть: «Ой, я опоздал на метро! Ну ничего, я поймаю машину, как-нибудь доберусь, не беспокойтесь». Конечно, никуда в ночь меня не отпускали, и стали оставлять ночевать на полу в кухне, так что встречи, можно сказать, прерывались только на короткий промежуток сна, чтобы с утра возобновиться.
В самом конце зимних каникул моя мама с отчимом, отдыхавшие с маленькой Машкой на подмосковной турбазе, предложили мне поменяться с ними местами и поехать на турбазу выгуливать Машку, а они, мол, поживут несколько дней в Москве одни. Я полагаю, им тоже хотелось на пару дней уединиться без маленького настырного спиногрыза, а нам с Настей предоставить по совместительству тоже некую самостоятельность и романтическую свободу. Настю они в то время никогда ещё не видели; она почему-то очень избегала знакомства с моей семьёй и стала появляться у нас только к концу первого курса, и то как дикая кошка: сначала мельком на лестнице, потом заходя в коридор «буквально на минуту», потом присаживаясь, не раздеваясь, на краешек табуретки на кухне, и только потом уже дойдя до комнат. Я, естественно, обрадовался идее поездки на турбазу, поскольку имел какие-то смутные надежды на ту самую романтику, но вокруг нас вилась четырёхлетняя Машка, которая сразу влюбилась в Настю и не отходила от неё ни на шаг. Стоило нам выгнать её в коридор, чтобы пошла поиграла в холле с другими детишками, и хотя бы присесть на одну кровать, как тут же дверь распахивалась, влетала Маруся и начинала тарахтеть: «Питя! Питя! Там нет никаких детей, ни на втором этаже, ни на четвёртом! И каруселей нет, я всюду проверила! И клоунов нет! Ты мне что, неправду сказал?» Так что под этот щебет романтика как-то скукожилась и усохла, хотя мне вполне хватало того, что я вижу её целые сутки напролёт и по ночам слышу её дыхание на соседней кровати. Ходили смотреть на звёзды, и Настя морозной ночью показывала мне созвездия.
– Вот это Орион, видишь? Я вон там, над горизонтом – Андромеда. А вот прямо у нас над головами, посмотри, видишь – кучка звёзд? Это Плеяды. Если ты можешь рассмотреть одиннадцать звёздочек, то значит у тебя всё в порядке со зрением.
– Насть, ну какие Плеяды? Какая Андромеда? Я на всём небосклоне вижу три звезды, из которых две – это фонари, а третья, не иначе, самолёт.
Она смеялась – ах ты, слепындра!
Очки, круглые, как у Джона Леннона (о Гарри Поттере тогда ещё, к счастью, не слышали), мы купили мне с денег, заработанных сбором яблок в Воронеже, уже на четвёртом курсе. Бабушка моя, посмотрев на меня в очках и выслушав меня, сказала:
– Нет, на Ленина нисколько не похож. Похож на Лермонтова.
Я даже обрадовался, если честно.
Бабушка, из всей моей родни, познакомилась с Настей первая, и то потому, что мне удалось уговорить её зайти, сказав, что бабушка сидит в своей комнате, смотрит телевизор и, пока ночной эфир не кончится, на кухню не выйдет. Но бабушка каким-то чутьём, сквозь включённый на полную мощность телевизор, почувствовала в доме постороннего человека и вышла знакомиться. Потом она рассказала всей остальной родне своё впечатление во всех деталях (впечатление, разумеется, было высшей категории), и меня стали теребить и просить наконец-то предъявить Настю на обозрение. Это, конечно, привело только лишь к обратному результату, Настя спряталась в свою раковинку вместе со всеми рожками и усиками и даже по набережной отказывалась гулять, опасаясь случайной встречи. Выманили её оттуда только полгода спустя, и то хитростью.
Когда мы не могли видеться, я поздними вечерами ходил в автомат на углу Комиссариатского переулка звонить ей, поскольку многое из того, что мне надо было ей сказать, сказать по домашнему телефону было нельзя. Скармливал двушки автомату, курил ароматизированную «Вегу» и пытался расслышать её голос, прижимая трубку к уху через шапку – трубка была ледяная на морозе, микрофон быстро покрывался капельками испарины и пах мокрой пластмассой и всеми ртами, которые дышали в него до меня. Это было место сбора всех местных алкашей; в промозглой будке с разбитыми стёклами стоял устойчивый запах мочи, и меня мутило от этого запаха и от сигарет, которых стало тогда неожиданно много.
Между тем не виделись мы часто подолгу. У каждого был свой независимый круг общения, в который второй не мог или не хотел входить; я тусовался с институтской компанией, ездил в общагу на студенческие попойки и иногда оставался там ночевать. По вечерам я плотно работал в институтской лаборатории, пытаясь навёрстывать образование, которого лишился, не поступив на биофак, и зачастую проходило по два-три дня между встречами. У Насти были свои подруги, и я не хотел вносить диссонанса в их девичник; меня, впрочем, туда и не звали. Был у неё и биофаковский круг общения, к которому я, разумеется, не мог принадлежать, и, конечно, был Босс, который не выпускал её из поля своего притяжения. Так что не было короткого поводка, поводок был достаточно длинный, даже и не поводок, а так, какая-то ниточка, которая между нами протянулась, и достаточно эластичная ниточка: потянешь – вроде и нет никакого сопротивления, а перестанешь тянуть, и тут же тебя отбрасывает назад, к центру суммы векторов сил. Центром суммы всех сил стала, несомненно, Настя, и куда бы я ни шёл, и с кем бы ни пил, и чем бы ни занимался, это мягкое пластическое натяжение всё время ощущал, как лёгкий голод. И я почему-то тешил себя надеждой, что в этом мире я тоже для неё не просто ещё одна деталь меняющегося пейзажа и что это натяжение действует на нас обоих. Тогда я так и не смог толком понять, был ли я прав в своих фантазиях или заблуждался. Не могу и сейчас. Тогда меня это тревожило и раздражало; сейчас, наверное, это уже не так и важно. Важно, наверное, в этом контексте совершенно другое воспоминание, которое тогда часто приходило мне в голову, из раннего-раннего детства. Мы с бабушкой забирались на старый, прошлого века, диван с заштопанными подушками, и она читала мне вслух «Маленького принца». Я ничего не помню ни про пьяницу, ни про банкира, ни про прочих персонажей, но помню, что больше всего любил главу про Лиса. И тогда, идя обратно от автомата, я повторял себе под нос: «Чтобы приручить, надо запастись терпением». А в ответ эхом раздавалось:
– Пожалуйста… приручи меня.
7
Мы садимся за стол ужинать – это семейная традиция, что за ужином вся семья собирается вместе и мы болтаем о происшествиях дня, кто чего видел, что делал, какие у кого заботы и тревоги, кто что напортачил и кому кто нахамил. Это хороший момент, чтобы устроить правёж детям, если есть за что или просто под горячую руку подвернулись; иногда же мы просто дурачимся и несём чепуху, если настроение хорошее и вина к ужину была целая бутылка, а не уполовиненная. Так и в этот раз, слово за слово, и разговор заходит о том, как надо красиво делать предложения. Дашке двадцать лет, ей по возрасту полагается интересоваться такими вещами, Нюрке четырнадцать, и, хотя «fuck your ladylikeness»[2] – это наш постоянный рефрен, но всякая романтика её тоже затрагивает, хотя преимущественно в плане чисто поприкалываться над тупыми адептами канонов.
Ну, как делают предложения в Америке, все, наверное, знают. По ритуалу полагается дорогой ресторан, шампанское, торжественная обстановка, барышня, конечно, делает вид, что ни о чём не догадывается, но нацепляет лучшее платье и проводит полдня у визажиста, чисто на всякий случай, подают десерт, и тут как бы внезапно, из-под стола – оп-па, вот она и заветная коробочка, а в ней колечко во-о-от с таким бриллиантом, чтобы завтра все коллеги точно заметили и уссались от зависти. Ну, или вот такой вариант, для романтиков. Стоим около водопада, любуемся. Место туристическое, полкилометра от парковки, вокруг много народа, водопад действительно очень красивый. Подваливает чувак ко мне, говорит: «слушай, будь другом, сними маленькую видяшку меня с моей девушкой на фоне водопада, чисто на память». Ну, обсуждаем, где мне встать, чтобы ракурс был наиболее выгодный, он показывает, на что нажимать, просит нажимать по его знаку. Подаёт знак, я запускаю запись, и тут он – хлоп на колени, и – оп-па, вот она и коробочка. Ну, она, естественно – уи-и-и-и-и-и, а он ей что-то бормочет, а она такая: йес, йес, йес, и тут сразу чмок, чмок, чмок, и все вокруг говорят «а-а-а-а-а-а-ах-х-х!», и хлопают в ладоши, и говорят им всякие хорошие слова, такое прямо ми-ми-ми, и я это всё, разумеется, документирую на его планшет. Ну, для особо продвинутых существуют экзотические варианты – забраться на какую-нибудь гору покруче, или на вулкан, чтобы создавал иллюстрацию жарких чувств, и тут, на вершине, под куполом неба – оп-па! И, естественно, уи-и-и-и-и, и йес, йес, йес, и чмок, чмок, чмок, и ми-ми-ми. Это то, как нормальные люди это делают.
– Папа, – начинает подначивать меня Дашка, – а расскажи, как ты маме предложение делал!
Ну, и Нюрка, конечно, тоже сразу: да, да, расскажи, расскажи!
– Да ну вас в жопу, – говорю, – я вам уже много раз рассказывал, чего повторяться, вы и так всё знаете.
– Нет, ну расскажи ещё раз! Правда, что ты возле мусоропровода её замуж звал?
– Правда. А что, тепло, светло, и ходить далеко не надо. И никто не подслушивает.
Дети давятся от смеха, предвкушая цирк.
– А колечко дарил?
– Дети, ну вы вообще вне контекста. Ну какое на хрен колечко по нашим студенческим доходам? Я же даже стипендии не получал. И к тому же, где вы видели, чтобы мама носила колечки? Вон, у неё целая шкатулка побрякушек, вы когда-нибудь видели, чтобы она её открывала?
– Ну расскажи, расскажи, расскажи!
И папа, подобревший от хорошего ужина и бокала любимой риохи, откидывается и рассказывает.
– Ну, слушайте, дети, и запоминайте. Вот нас не будет уже, а вы будете своим внукам рассказывать, какие у них были дикие предки, а те расскажут своим внукам, и история эта переживёт века. Папу своего вы, слава Богу, знаете как облупленного. Среди его многочисленных пороков и изъянов есть и такой, что он живёт с постоянным шилом в заднице и непрерывно должен изобретать себе проекты и их продвигать. Если проект застаивается и пропадает движуха и развитие сюжета, папе делается скучно, и он впадает в чёрную меланхолию. Эта потребность – завернуть за следующий угол и посмотреть, что там находится, неоднократно выходила ему боком, но что уж тут поделаешь, таков уродился. Мама, конечно, может не одобрить то, что я сейчас скажу, но мама – это тоже некий такой проект длиною в жизнь и с лихо закрученным сюжетом. А в период, так сказать, начального развития каждый проект обязан развиваться семимильными шагами – ну, примерно, как ребёночек растёт быстро, пока маленький, а потом замедляется в росте. Так вот. Мы с мамой знакомы со своих, точнее, с её четырнадцати лет, да, Нюрочка, не надо охать и закатывать глаза. Ей было столько лет, сколько тебе сейчас, когда мы встретились, ну, может, на полгода старше она была. А ты, Дашка, вообще молчи, в твоём возрасте мы были уже давно женаты и жили самостоятельно. Так что вот. А плотно дружить мы стали только в начале института – университета, когда нам было по шестнадцать-семнадцать. И за первые полгода такой плотной дружбы прошли довольно длинный путь – от людей практически незнакомых до людей практически самых близких друг другу. Да, не надо закатывать глазки, мама этого не любит. Но, дойдя до этой стадии, стало непонятно, что делать дальше. Движуха вот эта самая как будто начала пропадать, проект начал пробуксовывать. А дело в том, что самое-то главное слово так пока и не было произнесено вслух. То есть дружить-то мы дружили, и даже с вполне отчётливо обозначенной романтической окраской, но дружба – это одно, а любовь – это другое, и надо чётко отграничить одно от другого, провести линию и назвать вещи своими именами, чтобы не было недоговорённости. Да, папа, плюс ко всему, ещё и прямолинеен был, как юный носорожек. Заветное слово жгло гортань, а высказать его всё как-то не представлялось случая, и папа смущался, мялся, находил предлоги, почему бы не сегодня, и увиливал от неизбежного.
Дети начинают терять нить повествования и говорят: «А когда же будет про мусоропровод?»
Подождите. Не надо торопить историю.
– Так вот, в один прекрасный зимний вечер сидел я, как обычно, на Свиблово, сидел, сидел, досидел допоздна, а потом всё-таки распрощался и отправился восвояси. Но далеко не ушёл. Сел на станции Свиблово на полотёрную машину у въезда в туннель, и сидел на ней, ломая пальцы, и всё думал – человек я или тварь дрожащая? Ходил по перрону из конца в конец, и всё думал – тварь я или человек, который звучит гордо? А в конце концов решил – да что там, всё равно, не сегодня так завтра, уж если она меня и прогонит, так уж лучше поскорее, всё равно жить так больше невозможно, и вообще, хвост собаке надо отрубать одним ударом, а не по кусочкам отрезать. И вот, с этим собачьим хвостом в голове, поднялся я из метро, позвонил ей, сто восемьдесят ноль ноль девяносто шесть, сказал, что возвращаюсь, и попросил выйти на лестницу, чтобы маму не тревожить.
Ну, дошёл до её дома, поднялся, она уже ждала на лестничной клетке, аккурат между шестым и седьмым этажом. Вот тут-то вы и дождались – да, аккурат у люка вонючего мусоропровода. Не знаю, почему она там встала, наверное, чтобы лучше видеть, как я по лестнице иду. Ну, я поднялся ещё на полпролёта, встал как лист перед травой, набрал побольше воздуха и всё ей и изложил на одном дыхании – и про свои чувства, и про своё видение плана на будущее. Чувства были однозначные и простые как три копейки, и план был тоже не план, а так – одноходовочка. Одного дыхания вполне хватило.
– А дальше? А дальше? А что мама тебе ответила?
И дети принимаются ёрзать на стульях, уже предвкушая кульминацию.
Тут вмешивается мама, до того сидевшая молча, потягивая свой пино-гри.
– Что ответила, то ответила. Нет, ну ты хоть на секунду представь всю эту ситуацию с моей стороны! Ушёл, потом позвонил, сказал, что возвращаешься. Я думала – забыл чего. А ты вдруг, вот так ни с того ни с сего, на ровном месте: люблю!!! Жениться!!! Целоваться полез… Предупреждать же надо! Что, ты думал, я должна была тебе на это ответить?
И дети сползают под стол, держась за животики. Мы, пока дети не видят, быстро перемигиваемся.
Вот такая вот семейная история. Настя вообще всё ми-ми-ми это ну просто ненавидит.
8
Странно и подло устроено человеческое сердце. Вот все мы знаем, с детства нас учили, что любовь – чувство бескорыстное, ничего не желающее взамен, не предъявляющее ожиданий и требований, не ищущее выгоды и награды. А всё же она, любовь, чего-то да ждёт, и ищет, и просит, и требует: взаимности. И закрадывается в душу подленькая расчётливость: я столько душевных сил тебе посвятил и отдал – а твоя душа хоть сколько-то тронута? Всколыхнулась ли она навстречу моей собственной? Я вот без тебя дышать не могу, и солнце всходит для меня не утром, а вечером, когда тебя первый раз за день вижу, – а для тебя? Что, неужели прямо по календарю, и ни секундой позже? И кислорода тебе хватает? Я, посмотри, схожу с ума и сон теряю, а ты, душа моя, ты хоть, засыпая, подумала обо мне? Вот такая математика начинается, я тебе, а ты, уж пожалуйста, мне, если не сторицей, то хоть с каким-нибудь процентиком, но моё вложение изволь оправдать. Нехорошая математика, корыстная математика, расчётливая и неволящая обоих.
Летом Настя уехала на практику: сначала, в июне – в Мордовию, потом, буквально через два дня, сразу на Белое море. Я сидел в Москве, никуда не ездил, ждал её возвращения, чем занимался – не помню. Помню только, как бродил ночью по Ленинградскому вокзалу накануне её возвращения с Белого; поезд приходил рано утром, но спать я всё равно не мог и после полуночи поехал на вокзал, решив, что так хоть на километр, да всё же ближе к ней. Вокзал был запружен отъезжающими, ждущими утренние поезда, люди спали на лавках и на полу, на расстеленных газетах, хныкали дети, в проходах между лавками громоздились тюки и чемоданы, то и дело разносилось механическое эхо громкоговорителя, и невозможно было разобрать, что и кому он пытается сообщить. Пахло пивом, потом и табаком. Обойдя весь вокзал несколько раз, я нашёл себе место в зале ожидания у стенки на полу, втиснулся рядом с каким-то полупьяным мужиком и многодетной семьёй с востока и попытался подремать. И тут произошло озарение, знаете, как бывает, так что какая-то дверка в мироздании приоткрывается и внезапно прозреваешь истинную сущность вещей. В полусне, подняв дремотную голову с затёкших колен, я неожиданно понял, что я совершенно счастлив и, более того, что мне вот здесь и сейчас очень хорошо и комфортно среди этих неопрятных нарядов, отёкших лиц, несвежего дыхания и мусора на полу. Я сидел рядом с сонным похрапывающим соседом, который постепенно наваливался на меня своей потной тушей и норовил положить мне свою лысеющую голову на колени, и мне хотелось его погладить по влажному лбу и обнять за плечи. Все они, сидящие и лежащие на полу и на лавках, храпящие, всхлипывающие, пускающие газы, ворочающиеся в неудобных позах, были мне родными, такими неожиданно близкими, и я неожиданно подумал, точнее, даже почувствовал – это моё, это своё, это я сам в них растворён, а они во мне, и нет меня и нет их, есть только мы, и мы ждём Настю. Я был такой же, как они все, один из них, совершенно с ними сливающийся: в потёртых джинсах и несвежей рубашке, небритый, и тоже наверняка с красными глазами, и меня, как и их, мучили те же тревоги о задерживающемся поезде, о сохранности каких-то мелких денег в моём дырявом кармане и сохранности своего места у стеночки, если я отойду покурить, о последних двух сигаретах, оставшихся до утра, и о смешной девочке с засаленной, сосульками слипшейся чёлкой, которая где-то сейчас живёт совершенно своей, отдельной и независимой жизнью и, наверное, в азарте своей весёлой полевой круговерти даже и не вспоминает о нас. И обо мне. Удивится ли она, когда меня увидит? Будет ли рада? Какие будут её первые слова? Я понимал, что тот контекст, в котором она живёт и вращается, настолько отличен от моего, сейчас, в эти последние два месяца, что мысленно готовился к тому, что мы встретимся как чужие, как люди, которых связывает прошлое, да настоящее встаёт стеной. Что я ей сейчас? Кто я ей? Нужен ли вообще?
Пока Настя была на своих практиках, я часто ездил в Звенигород, на биостанцию, к Альке и Вадюше. Мы бродили по болотам, я о чём-то советовался с ними, у меня были какие-то тревоги и сомнения, не имеющие к Насте отношения, и мы долго, подробно совещались о том, как мне жить дальше, бросать ли свой ненавистный институт или терпеть, пытаться ли сделать ещё один заход на биофак или не рисковать загреметь на срочную. В один из таких приездов, когда Вадюша нас покинул, мы долго ещё сидели с Алькой на брёвнышке в темноте, и я изливал ей свою душу, всю муть и сомнения, терзавшие меня. С Алькой мы, кстати, сдружились ещё в первой Эстонии, и она довольно быстро стала мне першим корешем, верным товарищем, дуэньей и поверенной во всех моих сердечных перипетиях. С ней всегда было очень хорошо и легко, и даже налёт лёгкого флирта, иногда проникавший в это товарищество, не мешал, а только прибавлял сердечности и открытости.
– Алька, – исповедовался я, – чего мне делать-то? У неё своя жизнь, интересная, весёлая, событийная. Практики тут и там. А у меня эта чёртова Менделавка, пропади она пропадом. Химические технологии, и единственная практика на химзаводе после третьего курса. У неё свои друзья, своя компания хороших, приятных людей со сходными интересами. А у меня круг общения – только бы нажраться, потрахаться и бабла срубить. У неё есть Босс, который её любит, а я Боссу – ну что есть, что нет, отрезанный ломоть. Она мне письма пишет, несколько штук за месяц прислала, там про практику много и парни какие-то фигурируют, Лёша какой-то, Фёдор. Зачем она мне про этого загадочного Фёдора написала? Кто он такой? («Это хорошо, что пишет, – вставляла Алька, – было бы о чём писать, не писала бы».)
– А вообще, – продолжал я, – я даже и не знаю, кто я ей и какое место я в её мире занимаю. Она-то про меня всё прекрасно знает, а я про неё – ни-че-го. Может, она просто жалеет меня, обидеть не хочет и оттого и терпит? Может, пропади я завтра из её жизни, и она ещё и с облегчением вздохнёт, а может, и вообще не заметит перемены в своём состоянии? Может, так и сделать? Отпустить её с миром к её Фёдору, её друзьям и подругам, к Боссу, не мучать её больше своим присутствием? Я ж им чужой всем. Так, я думаю, ей будет лучше, а я как-нибудь переживу. А вот, послушай, пока я так думаю, она входит в комнату и улыбается мне своей улыбкой с ямочками, и у меня всё в глазах темнеет, честное слово, и я понимаю – нет, не переживу я без этой улыбки, не могу я без неё. Так что мне делать то, оставить её в покое, уйти по-джентльменски, как ты думаешь?
– Нет, – говорила мудрая Алька, гладя меня по буйной головушке, – уходить не надо. Просто делай так, чтобы она почаще улыбалась.
А встретились мы, кстати, как-то просто так, между делом, привет – привет. Метро уже открыто? Да, шесть часов уже. И так далее. Как и полагается взрослым, сдержанным людям, чего на перроне спектакль устраивать. Тем более на глазах у Фёдора.
Второй курс шёл своим чередом, на ощупь, как в густом тумане. Я всё чаще оставался ночевать у неё на кухне, и она ко мне часто приходила по ночам, и мы лежали рядом, облокотившись на руки, и опять о чём-то говорили, на ухо, чтобы не разбудить маму, спавшую в проходной комнате без двери. Мама же её, человек мудрый и тактичный, довольно скоро подарила мне махровые тапочки, поставила в ванной комнате новую зубную щётку в стаканчик рядом с Настиной и даже купила для меня пакет одноразовых бритв, тем самым зафиксировав и узаконив этот кухонный статус-кво. Через какое-то время для меня сделали и копию ключа от квартиры, чтобы я мог приходить и чувствовать себя как дома, дожидаясь хозяев. Уходя, я писал какие-то смешные и откровенные слова губной помадой на зеркале в прихожей (не помню, чья была помада, боюсь, что её мамы), и меня как-то не особенно беспокоило то, что первой домой может прийти и прочесть именно мама, а не Настя. В конце концов, думалось мне, статус наших отношений, кажется, понятен и так всем вокруг. Всем вокруг, кроме меня самого.
И, как странно, единого слова бывает достаточно, чтобы все сомнения и страхи разрешить, но как долго мы часто ждём и ищем этого слова! И, вообще, зачем и ждать его, когда всё и так ясно, и было показано неоднократно и делом, и жестом, и взглядом? Но нет же, необходимо, совершенно необходимо, чтобы нужные слова были сказаны, произнесены вслух, а потом повторены много, много, много раз, и повторялись часто, и много лет кряду, как утешение, и заверение, и клятва, и напоминание – о нас самих же, только таких маленьких и бестолковых в выражениях своих чувств. И, вместе с тем, таких искренних…
А лучше всего запомнилась какая-то ерунда: бабушкин испуг и негодование по этому поводу. Мы говорили по телефону, как делали каждый день, когда не могли видеться. Я был у себя дома на набережной, она – у себя. Курс был второй, но какой месяц или даже сезон был за окном – не помню, и о чём был разговор – тоже, конечно, не помню, но в любом случае он заканчивался, и я уже собирался вешать трубку, и на прощанье, как обычно, уже почти что автоматически напомнил ей о самом главном.
– Эй. Я люблю тебя. Ты помнишь?
В трубке повисло долгое молчание, и я уже подумал, что нас разъединило. Потом как из тумана выплыл её голос и тихо, но решительно сказал:
– И я тебя люблю. Пока.
И раздались гудки.
Как мало нужно человеку. Такое ощущение внезапно обрушившегося, неожиданного, совершенного, круглого как шар, счастья я помню только однажды до этого момента – когда по телефону позвонил Босс и сказал, что меня приняли в биокласс. Разгром и разнос комнаты в клочки и щепки прервала только бабушка, через несколько минут вошедшая, как всегда, без стука. Я в этот момент, кажется, прыгал на старом диване, выкрикивал какие-то индейские кличи, пинал стену, бил диванные подушки кулаками и швырялся ими через комнату.
– Ты чокнулся, – сказала бабушка. – Совсем спятил. Ты чего в стену колотишь? У меня телевизор мигает, ты мне его сломаешь своими плясками. Прекрати сию секунду, дай мне смотреть, там Сахаров выступает, а мне ничего не слышно. Слышишь? Эй! Слезай с дивана на пол!
Я спрыгнул, схватил её за плечи и попытался сделать несколько танцевальных па, но идея вальсировать с сумасшедшим ей по вкусу не пришлась; она сердито отпихнула мои руки и пошла к двери, продолжая выражать своё возмущение и оттолкнув по дороге ногой валявшуюся в дверях подушку.
– И чего разбесился-то так? – продолжала она уже из коридора. – Пятёрку, что ли, получил?
– Ага! – вопил я ей в спину. – Во-о-от такую вот пятёрищу! Ты не поверишь! По самому главному проекту!
– Ну-ну, – отвечала та, уже закрывая за собой дверь в свою комнату. – Небось первая твоя пятёрка за два года. Балбес.
Ага. Первая. Ты даже не представляешь, до чего первая.
И я опять запустил подушкой в стену. С грохотом упала картина в рамке, телевизор за стеной замолчал, и в коридоре снова послышались шаркающие шаги.
9
На этом счастливом моменте можно было бы поставить точку и пустить по экрану титры. В том, что Настя не лукавит, я не сомневался ни на секунду – не в её это привычках. И то, что слову её можно верить, я тоже уже хорошо знал: если сказала, то уже не отступится. Впрочем, хоть отступаться она и не собиралась, но и замуж не рвалась. Я за эти два года язык отбил напоминать ей о своей решимости затащить её таки под венец; она же как-то отнекивалась, ссылаясь на наш юный возраст (той осенью на втором курсе ей только стукнуло восемнадцать) и отсутствие жилищных условий. И действительно, у меня в двухкомнатной квартире жили бабушка, мама с мужем и маленькая Машка, так что там нам бы пришлось жить только что разве на антресолях. Бабушка жила в отдельной комнате; вторая же комната была разгорожена фанерной стенкой, так что получилось как бы две, но одна была, по сути, маленькой проходной каморкой без окон. В этой каморке стоял секретер, шкаф и моя кровать, застеленная листом толстой фанеры, – я со школьных лет, когда ещё мечтал стать альпинистом, занимался умерщвлением плоти и приучился спать на голой доске, покрытой только тонкой простынкой, и без подушки. У Насти вроде бы была своя отдельная комната в смежной двушке, но и тут неожиданно возникли, казалось бы, непреодолимые обстоятельства.
Настиной маме в ту пору не было ещё и сорока, но нам казалось, что это такой возраст, когда о личной жизни думать уже неприлично, а прилично готовиться нянчить внуков и крючком вязать носки. Настина мама, однако, была другого мнения о своих перспективах, и в какой-то момент, к Настиному ужасу и отвращению, в доме завёлся пожилой кавалер, который сразу принялся наводить свои порядки. А порядки он наводить любил и умел. Это был высокий и грузный человек, возрастом ощутимо старше мамы, с заметной проседью в коротких вьющихся волосах. По роду занятий он был физик-кибернетик, а по склонностям – натуральный крёстный отец, полководец и уездный предводитель в одном флаконе. Говорил он с большим апломбом, мнения имел однозначные, непоколебимые и по любому вопросу, в склонности к рефлексии замечен не был и быстро заполнил собой всё жизненное пространство. Хотя Настина комната оставалась вне зоны его досягаемости, сидеть в ней всё время было невозможно, а выходя хоть бы даже и в туалет, приходилось сталкиваться с новым хозяином. И Настя стала в своём доме ходить по стеночке. Я тоже перестал заходить так часто, как раньше, а когда заходил, старался не задерживаться, чтобы не перекрываться с «крокодилычем», как Настя его называла. Зато, лишённые возможности видеться у неё дома, мы стали часто ездить на выходные в Апрелевку, где у моей мамы была дача. Про дачу надо сказать отдельно.
Когда умер мой дед, в 88-м году, он оставил своим детям наследство, примерно по пять тысяч доперестроечных рублей – изрядная сумма по тем временам, почти что цена нового автомобиля. Автомобиль нам был не нужен, а иметь свою площадь за городом хотелось: до того, в первые три года Машкиной жизни, мы снимали дачи, а это было и недёшево, и некомфортно. Поэтому решено было купить дом в Подмосковье. Быстро выяснилось, что на оставшиеся к тому времени от наследства деньги целого дома уже не купишь, зато нашёлся вариант с домом, разделённым на части, каждая с отдельным входом и маленьким участком в три сотки. Дом был сороковых, послевоенных лет постройки, одноэтажный; в одной половине жили две одиноких женщины, мать и дочь, для которых это было основным и единственным жилищем, а вторая половина была разделена на четвертушки. В одной жила молодая пара из самой же Апрелевки, простые ребята «от станка», а вторая после смерти хозяина была выставлена на продажу. Жилплощадь выходила окнами в сторону неасфальтированной улицы и состояла из небольшой застеклённой веранды, на которой хранился разнообразный мусор, кухни и двух маленьких проходных комнат анфиладой. Были в наличии АГВ для отопления зимой, а также газовая плита на кухне; летом имелась холодная вода в кране, а зимой воду отключали, и её носили в вёдрах от колонки на углу, и тогда пользовались для всех житейских нужд жестяным умывальником. Под раковиной стояло ведро для сточной воды – водопровода на этой половине не было, равно как и канализации, зато с задней стороны дома было сооружено отхожее место с поганой бадьёй под сиденьем. Перед домом был маленький палисадник, в котором жили две старые яблони, росли кусты смородины и было место для клумб. Позади дома, вдоль тропинки к туалету, тоже шла полоска своей земли, и там можно было высаживать лук, укроп, помидоры и прочую салатную дребедень. Весной там стояло озеро талой воды, которая не сходила до конца мая, так что укроп мы сажали, как японцы рис, – в чавкающую топь.
Когда мы только купили эту фазенду, в 89-м, кажется, году, счастью не было предела. Разумеется, мама, как и все неофиты-дачевладельцы, ударилась в садоводство и по весне принялась проращивать на подоконнике рассаду, а на майские везла её на электричке на «дачу» в пухлом брезентовом рюкзаке с торчащей из горловины помидорной ботвой, и мы проводили все праздники, копаясь в жидкой ледяной глине на заднем участке. Помидоры и огурцы не родились, как мама ни убивалась на посевной кампании и сколько бы грузовиков песка и навоза, специально заказанных в какой-то особенной песочно-навозной конторе в Наро-Фоминске, мы ни закапывали в это болото. Зато родились яблоки, под которые не закапывали ничего кроме окурков. Одна яблоня была антоновкой, а вторая, огромная и разлапистая, – китайкой; в варенье шли плоды с обоих. Яблок было огромное количество, причём каждый год. По весне, отработав свою повинность на хорошо унавоженном болоте, мы ложились в гамак, натянутый между деревьями, и любовались яблочным цветом. С годами мы стали сокращать посевной трудодень в пользу гамака, а со временем и вовсе рассудили, что укроп на рынке выходит дешевле, чем с огорода, а яблони зато цветут бесплатно, и стали ложиться в гамак прямо утром первого мая, без захода на грядки. И тогда началась настоящая жизнь.
Так вот, возвращаюсь к Крокодилычу. Естественно, я почуял благоприятный момент и ввернул тему женитьбы в какой-то разговор, когда мы гуляли лунной ночью по звенигородскому болоту после второго курса. Ответ не изменился за последние полтора года.
– Ну хорошо, – продолжал я соблазнять, – ну Бог с ней, со свадьбой, не хочешь – не надо. Давай просто уедем в Апрелевку и заживём там вдвоём, кому какое до нас дело? Дом пустует девять месяцев в году, а до следующего лета что-нибудь да нарисуется. Пускай Крокодилыч царит на Свиблово, если твою маму это устраивает, а мы построим собственное маленькое королевство… рай в шалаше… и далее шёл соблазн по всем пунктам.
Но Настя упиралась – стыд какой… у всех на глазах… люди не поймут…
– Ну слушай, ты серьёзно думаешь, что все слепые и никто ничего уже не понял? Ну зачем это лицемерие и притворство? Кого ты хочешь обмануть?
Но она опять заводила свою пластинку «я девушка приличная», которую я ненавидел, и разговор затухал. Обратно возвращались недовольные друг другом, под вой сексуально озабоченных лисиц.
Так дело и тянулось, и, не знаю, чем бы всё это кончилось: никакого выхода из жилищной проблемы не просматривалось, впереди намечался тупик, поезд дальше не идёт, просьба освободить вагоны. В августе куда-то ездили вдвоём, кажется, в Сиверскую. Приехав, опять разбрелись по домам, она – к без пяти минут отчиму, я – к своей доске. Лето кончилось, начался сентябрь, третий курс.
Я не знаю, какие ангелы то и дело проникают в нашу жизнь, иногда в самом странном и непредсказуемом обличии. Зная Настино терпение и способность подстраиваться под обстоятельства, я не надеялся, что апломб и напор Крокодилыча смогут перебороть её страх перед ЗАГСом. Я, как всегда, её недооценил. Я не знаю, что он ей сказал и что именно переполнило чашу её терпения. Может, ничего конкретного, может, просто момент такой настал. Мне кажется, возможно, что именно в сентябре он наконец надумал переехать с вещами (до того он, как и я, хоть и проводил на Свиблово большую часть времени, официально жил где-то на стороне), и Настя почувствовала, что в новой молодой семье взрослый ребёнок от первого брака будет смотреться странно, а в стеснённых жилищных обстоятельствах ещё и неуместно. Может, ей тонко намекнули на этот факт сами молодые. Она мне никогда не говорила, а я никогда не допытывался. Просто в какой-то день она позвонила первой и, как в кино, не поздоровавшись, выпалила:
– Ты ещё не передумал?
– Э-э-э-э-э, – сказал я. У меня так часто: ждёшь долгожданного вопроса, а когда его задают, ничего кроме «э-э-э-э-э» сказать не можешь. Но это «э-э-э-э-э» я сказал, по-видимому, с утвердительной интонацией, иначе бы разговора не получилось.
– Только обещай мне: никаких сборов родственников, торжеств, речей, праздников, ресторанов и застолий. Распишемся, и всё.
Я опять сказал «э-э-э-э-э». На этот раз достаточно нейтрально, так что она истолковала это «э-э-э-э-э» утвердительно, а мне это дало возможность потом вести переговоры о точном количестве гостей.
– И прямо сейчас. Сегодня.
Тут ко мне вернулась речь, правда, лучше бы не возвращалась.
– Сегодня не получится. Сегодня воскресенье, загсы закрыты. До завтра не передумаешь?
– Не знаю. Не обещаю. Постараюсь.
И она не передумала.
Вот тут я, пожалуй, пущу по экрану титры. Назавтра они действительно встретились на старой-доброй Новокузнецкой и неторопливо отправились петлять по осеннему золотому Замоскворечью, держа направление в сторону улицы Землячки, где находился ЗАГС. Там на них недовольно посмотрели, пробурчали что-то вроде «молодёжь, чуть что – сразу жениться» и выдали книжечку с талонами в магазин с неприличным названием «Гименей». Но о книжечке будет отдельная история, а пока я оставлю своих героев на горбатом мостике через канал возле поликлиники, облокотившихся на перила, рассматривающих бензиновые пятна на воде, уток, рыболовов, перистые облака на закатном небе, своё отражение в воде и о чём-то молчащих вместе, в первый раз за все эти годы.
Ну где-то примерно такие
1
«Аська» было Настино школьное прозвище. Оно настолько прочно к ней привязалось, что многие люди, знающие её по школе, даже и не подозревают, что по паспорту она – Настя.
2
На русский можно примерно перевести как «ни хуя я вам не леди».