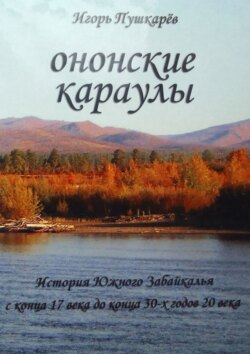Читать книгу Ононские караулы - Игорь Александрович Пушкарёв - Страница 16
Служба – городовая и острожная
ОглавлениеДавайте же попробуем, хотя бы частично, опираясь на те же Метрические Книги, назвать имена первых караульцев, положивших начало нашим приононским посёлкам. В 70-е годы 18-го века часто встречаются в одних и тех же метрических записях имена Мирона Шульгина, Маркела Курбатова, Сергея Мусорина, Ивана Шеломенцева и это даёт нам основание полагать, что все они служили на Бальджиканском карауле, так как в Исповедальной ведомости за 1823 год можно встретить здесь же эти фамилии. Да и в Ревизских скасках 1782 года все они написаны именно по «Бальчиканскаму караулу».
«Убиенным местом» называл этот караул писатель и горный инженер Александр Черкасов, который в 50-х годах девятнадцатого века жил и работал в бальджиканской тайге. В ту пору караул был семидворовым. Окна в домах затянуты бычьим пузырём и слюдой. «Бедность ужасную» находил Черкасов в этом Богом забытом карауле47.
Следующий за ним к востоку Букукунский караул был, видимо, установлен чуть позже. На эту мысль наводит то, что, например, у Васильева в списке наличествующих к 1772 году караулов, Букукунский не значится: …Бальджиканский в 150 верстах от Мензинского, Алтанский (83 версты), Кыринский (36 вер.), Верхнеульхунский (32 вер.), Мангутский (30 вер.), Нижнеульхунский (30 вер.), Тохторский форпост (30 вер.), Могойтуевский (25 вер.), Дурулгуевский (25 вер.), Кубухаевский (33 вер.), Цасучеевский (45 вер.), Кулусутаевский (35 вер.) …48. Не упоминается Букукунский караул и в «Именном списке казакам, кто где обретается на котором карауле» за 1767 год.
В Алтанском карауле в начале 70-х годов 18-го века мы встречаем Игнатия Тюменцова, Фёдора Попова, Петра Юдина и казачьего капрала Михаила Забелина.
В Кыринском – Фёдора Петрова, Якова Куклина, Семёна и МихаилаУваровых, Тихона Серебрекова (так в документе). Верхне-Ульхунским караулом заведовал казачий капрал Сергей Салтанов, а в числе первых казаков-основателей были Никита, Алексей и Сергей Власовы, Семён Логинов, Фёдор и Еда Салтановы, Иван Трухин.
В Мангуте проживал Сотник Нерчинского конного штата казаков Дмитрий Батурин и семьи первых казаков – Ивана Минина, Петра Богомолова, Павла Пушкарёва, Петра Рудакова, Ивана Шишкина, Никиты Титова, Петра Батурина, Фёдора Путинцова, Филиппа Шильникова.
На Нижне-Ульхунском карауле обустраивались семьи Осипа и Ивана Трухиных, Егора Карпова. За старшего на карауле был казачий урядник Ефим Трухин49.
Эти самые что ни на есть коренные фамилии ононских просторов не могут не вызвать особый интерес и хочется заглянуть ещё более вглубь истории, чтобы проследить их прежнее место обитания и службы. Откроем «Именную книгу великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государыни благоверные царевны и великие княжны Софии Алексеевны… детям боярским и казакам… города Нерчинска за 168550 год с денежными их оклады». После недолгих поисков бросаются в глаза знакомые фамилии. Вот конный казак Карп Юдин, оклад которому положен 8 рублей. Видимо, Карп в должности стоял выше других, потому, что казакам оклады положены по 7 рублей, 8 алтын да 2 деньги.
Здесь же неподалёку десятник Микита Логинов, конные казаки Василий Чупров, Герасим Власов, Андрей Пушкарёв, Сава Перфильев, Василей Казанцов, Иван Петров. Других здесь нет, но в такой же Окладной книге, уже за 1699 год мы встречаем конных казаков с окладами по 7 рублей с четью Бориса Тюменцова, Василия Уварова, Григория Путимцова, Луку Попова. В этом же году в Итанцинском остроге служит конный казак Михайло Батурин. А в Нерчинском округе в конце 17-го века состоит пятидесятником Иван Богомолов. Иван был достаточно грамотным человеком, так как в одних документах он значится подьячим, а в других произведён уже в дети боярские.
Как мы уже успели убедиться, караульские казаки были не только военным народом. Во всех сферах государственной службы они показали себя талантливыми, предприимчивыми и успешными деятелями, от дипломатической миссии при дворе Богдыхана, до приведения в покорность немирных инородцев!
Справедливости ради следует отметить, что на протяжении всей истории Забайкальского казачества караульцы стояли наособицу от всех других казаков своего Войска, памятуя свою «природность» и свято храня честь исконных казаков. Именно эта «генетическая память» заставит казаков Первого и Второго отделов, то есть караульцев, почти поголовно пойти за Атаманом Семёновым в годы Гражданской войны, а перед этим яростно отстаивать «казачье сословие», когда казаки Третьего и Четвёртого (более позднего формирования) отделов, потомки горнозаводских крестьян, проголосуют за ликвидацию казачьего Войска. Но это всё будет более чем через полторы сотни лет, а пока ещё много лиха доведётся хлебнуть нашим предкам.
Первое документальное упоминание о казаках в Восточном Забайкалье относится к середине 17-го века. Второй царь из династии Романовых, у которой в ту пору каждая копейка была на счету, Алексей Михайлович уже довольно много был наслышан о богатых землях Даурских, о залежах золота и серебра, обилии пушнины в тех далёких местах. И хотя основные его интересы были на западе, считал необходимым укрепить восточные рубежи, создать на них военные округа во главе с воеводами, чтобы могли развиваться окраины государства и «поелику возможно» способствовать пополнению казны царской. С этой целью была дана Енисейскому воеводе Акинфову царская грамота от 20 августа 1655 года, в которой сказано:
«Велено Афанасию Пашкову, с сыном Еремеем, быть на Государевой службе в новой Даурской земле».
А вместе с ним в неведомые земли отправлялись 300 стрельцов и казаков, и велено было выдать им всякого снаряжения и провианта из Тобольска и выплачивать им денежное содержание из енисейских доходов.
На основании этой Грамоты в 1913 году Высочайшим повелением присвоено Забайкальскому казачьему Войску старшинство с 20 августа 1655 года.
Во второй половине 17-го века Восточная Сибирь имеет три города, Нерчинск, Селенгинск, да Якутск и несколько острогов. Уже отчётливо обрисовывается административное устройство, экономическая, политическая и военная обстановка благоприобретённого края. В силу того, что пограничная линия от Бальджиканского караула на западе и вплоть до аргунских на востоке управлялась из Нерчинской «воевоцкой», как писали в документах того времени, канцелярии, то и попробуем проследить городскую и провинциальную жизнь Забайкалья 17-века на примере города Нерчинска. Сохранилась в Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА) удивительная книга «Городов сибирских 17—18 века», а в ней и списки именные, и списки городовые и острогам и острожкам и «посацким» людям и пашенным крестьянам.
Вот, к примеру, состояние города на 1689 год. «Нерченской город заведён не в давних летех и распространяется вновь», а потому ещё больших доходов не имеет. Город деревянный, рубленый, длина периметра стен вместе с башнями 308 сажен (656 м), а всего тех башен восемь, из них четыре глухие по углам и четыре в стенах с проезжими воротами. У двух проезжих башен имеются калитки на воротах. Наверху у башни нарублен чердак с перилами, в чердаке часы боевые. В городе есть зелейный (пороховой) погреб и оружейный сарай, а внём 31 пушка медная полковая, да 2 пищали затинных да 2 пушки верховых. В казённом амбаре изрядный запас пищалей, бердышей и самопалов, даже «мунгальские» есть, а также барабаны (правда из 22-х наличных только три целых), знамёна, копья и прочий воинский скарб. «А всего в Нерчинску князь Павел и детей боярских и конных казаков … 208 человек». В этом же списке значатся и люди специфических профессий: часовых дел мастер, барабанщик, бронный и «заплешной» мастер, или палач, проще говоря.
В Нерчинском уезде было на ту пору пять острожков: Аргунский пограничный, Теленбинский, Иргенский, Яравинский, Итанцынский. Все очень малых размеров.
Аргунский, например, имел в длину 13 метров, да в ширину девять. Стены стоячие, то есть заострённые колья установлены сплошь, вертикально, заострёнными концами
вверх. Высота стены более четырёх метров. В стенах острогов имелось по две избы, которые предназначались под «аманатов», заложников. Аманатская изба имела окно наружу, чтобы соплеменники могли навещать своих запертых собратьев и кормить их, не входя в острог. Да, обязанность кормить лежала на сородичах. Из оружия в острожках только в Аргунском имелось три пушчонки маленьких, а в остальных только пищали да самопалы.
Известный немецкий учёный и путешественник Г. Ф. Миллер называет более точную дату основания города – 1658 год, и постройки рубленной крепости – 1689 год51. В 1739 году осматривающий крепость Миллер отмечает её очень ветхое, полусгнившее состояние, хотя и при довольно мощном артиллерийском обеспечении. Имеются некоторые публичные здания – канцелярия, дом воеводы, караулка, цейхгауз, каменный пороховой погреб, амбар, в котором хранится поступающий ясак, соляной амбар и семь хлебных магазинов. Кроме того, имеются ратуша и таможня с мелочными лавками. 145 дворов обывателей окормляют две церкви, каменная и деревянная.
Миллер находит сильное запустение и оскудение города по сравнению с прошлыми годами и объясняет это тем, в первую очередь, что город лишился сношения с Китаем, оставшись далеко в стороне от торговых путей, идущих теперь через Селенгинск. Кроме того, резкое снижение соболиного промысла привело к значительному оттоку промышленников из этих мест. И ещё одну причину – неумеренное пьянство – видит Миллер в обнищании населения. Однако и хорошим впечатлением делится путешественник: «Местность очень приятная и здоровая, равнина изрядно заселена русскими жителями, а языческие народы многочисленны и зажиточны».
Конные казаки разделены были на сотни, пятидесятни и десятни. Сотники и пятидесятники управляли казаками, а во главе всех стоял конный атаман. Управлял всей военной службой князь Павел Гантимуров. Нерчинские казаки (даже атаманы) не были освобождены от платежа подушных денег52.
В последние годы 17-го века численность служилых людей в городе Нерчинске снизилась на 60 человек. Данный факт так объясняет Васильев: «Быстрое уменьшение казаков вызывалось местными обстоятельствами: казаки, живя по острогам, не получали сполна жалования, ни денежного, ни хлебного. Они обнищали, одолжали великими долгами. Монголы часто отгоняли у них лошадей. Обогащение за счёт инородцев, вместе с приостановкою расширения ясачного района прекратилось, и вольница начала снова „брести врозь“. Период бродячей жизни заканчивался».
Попытки правительства обратить казаков в земледельцев вызвали неудовольствие в их среде, а затем и открытые мятежи. Казаки Никита Мара и Василий Пешков и вовсе подговаривали казаков «ограбить царскую казну, убить воеводу» и, забрав пушки и оружие, отправиться поискать прежнюю вольную жизнь на Амуре. Чтобы укротить казачью вольницу, в 1703 году упразднили символ её – звание атамана и взамен ввели «казачье головство», предоставив казакам самим выбирать из своей среды казачьего голову. «Энергичные казаки томились от бездеятельности, – продолжает Васильев, – Глухое брожение казаков было естественным, вследствие внезапного перехода, после полной приключений жизни к вынужденной праздности, вскоре перешедшей в беспримерную леность».
Сделав такой краткий экскурс в историю 17-го века, давайте вернёмся к нашим фамилиям и попробуем выяснить, какие пути-дороги привели их первых представителей на ононские караулы.
До того как привезти свои семьи на берега Онона и его притоков, наши казаки служили в основном по острогам и в городе Нерчинске. Все они назывались Нерчинского конного штата служилыми людьми, ведал ими так называемый «Нерчинской воевоцкой канцелярии казачьих дел», то есть своеобразное управление, откуда они получали и разнарядки по службе и которое занималось их вещевым, продовольственным и денежным снабжением.
Термин «служилые люди» применялся не только к казакам. Так назывались все, кто находился на государевой службе.
Основной род деятельности конных казаков до поселения их на караулы заключался в сборе ясака, отнесения городовой службы, приискании новых «ясашных людишек». Они же служили и резервом для отражения набегов и въездов с чужой стороны. И из них набирали партии для освоения Камчатки, где и гибли зачастую от рук «немирных туземцев».
Документы первой половины 18-го века показывают, что в Камчатку «ссылали» за провинности, как, например, родственников наших первых караульцев Герасима Юдина и Тимофея Власова выслали туда в 1745 году. Видимо, служба на краю земли была настолько опасна и тягостна, что охотников находилось мало.
Партиями по 20—30 человек казаки жили в отдалённых острогах и «приводили под высокую руку» окрестных туземцев. Так, например, в Итанцинском остроге 1767 года я нашёл своих прямых предков Пушкарёвых и Батуриных. С ними же был и Герасим Засухин, предок тохторских казаков Засухиных53. А всего в Итанцынском остроге в том году было на службе 26 казаков.
Как следует из документов вышеуказанной канцелярии за середину 18-го века, в Читинском остроге, например, служили конные казаки Степан и Илья Ячменёвы, Осип и Семён Юдины, Кузьма Богомолов, Иван Минин, Василей Салтанов, Емельян Куклин; в Телембинском казаки Иван Трухин, Тимофей Власов, Никита Салтанов; в Итанцинском остроге казаки Пушкарёвы, Батурины, Гурулёвы, Засухины; в Еравнинском – Белобородовы и Уваровы54.
Очень нелёгкой была жизнь и служба наших предков. Кроме явных опасностей ратного дела, приходилось страдать даже при таком рутинном, можно сказать, деле, как сбор ясака. Под страхом смертной казни им воспрещалось возить на продажу оружие, пушнину или какие-либо товары в ясачные волости, а также скупать пушнину у инородцев. Вменялось казакам в обязанность следить за инородцами, чтобы на промысел за соболями выезжали заблаговременно, «не испоздав». И чтобы сами казаки-сборщики «инородцев не били и не грабили… чтобы пищали и платья с себя не продавали, чтобы пьянства, распутства и воровства не было, чтоб у ясачных не покупали жёнок, девок и ребят» (бывали, видимо, примеры). Добром или силой оружия должны были препятствовать русским или китайским подданным торговать или охотиться в ясачных волостях. За недобор ясака отвечали казаки своим имуществом. По любой жалобе ясачного инородца, на взяточничество или другую обиду, сборщика публично наказывали, как преступника. И может в награду за их страдание, многотерпение и верность долгу и послал им Господь последующее процветание.
Так продолжалось до 60-х годов 18-го столетия, когда назрели значительные перемены как в службе казаков, так и в жизни Нерчинского и Селенгинского «дистрихтов» в целом. Забайкалье к тому времени уже было настолько освоено, что остроги потеряли своё значение, как крепостцы и центры по сбору ясака. Даурия стала частью Государства Российского, а потому на первый план выходила охрана государственной границы.
И поехали казачьи семьи из острогов и поселений на вечное поселение на порубежную линию… Но, прежде чем мы простимся с городовой и острожной жизнью наших предков и перейдём к описанию их караульской службы, хочется ещё раз возвратиться к «служивской» деятельности казаков и ещё раз отметить их универсальность, их талантливую многогранность. Создаётся впечатление, что любая сфера государственной и общественной жизни в нашей Даурии им была по плечу. Достаточно вспомнить, например, посольскую миссию казака Игнатия Милованова к Богдыхану или дворянство казака Василия Шадрина, которое он получил за свои успехи в разведках в Монголии. А то, что десяток казаков могли без применения оружия, а только языком дипломатии привести в повиновение и наложить ясак на целые туземные роды, было обычной практикой для всей Сибири. Экономическая и хозяйственная деятельность также не обходилась без участия казаков. Так, например, в 1745 году мой предок конный казак Илья Батурин служит целовальником в «провиантской Ея Императорского Величества магазейне Нерчинской воевоцкой канцелярии Ытанцынского острога». Ведёт учёт пашенным крестьянам, их пашням и посеву и сколько урожая ими собрано и сколько сдано в казну. Также принимает мягкую рухлядь от сборщиков ясака, принимает плату в казну от податных людей, выдаёт хлебное и денежное жалованье служилым. На его руках огромные ценности55.
47
А. Черкасов «Записки сибирского охотника»
48
А. Васильев «Забайкальские казаки», том 2, стр.209.
49
Метрические книги Акшинской Николаевской церкви, ГАЗК Ф.282 Оп.1 д.46
50
Сибирские города, Материалы для и истории, Москва Типография Волчанинова, 1886 год
51
Экспедиционные материалы Г. Ф. Миллера. А.Х.Эллерт. стр. 172
52
А. Васильев «Забайкальские казаки», том 2
53
ГАЗК Ф.10 Оп.1 д.98 л.122—124 Нерчинская воевоцкая канцелярия.
54
ГАЗК Ф.10, Оп.1, д.43
55
ГАЗК Ф.10, Оп.1, д.43 ч.1.