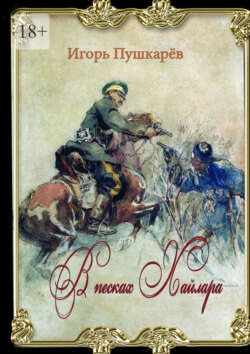Читать книгу В песках Хайлара. От Онона до Гирина - Игорь Пушкарёв - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеУтром Семён сходил на кладбище. Привстал на колено у могилы матери, долго и задумчиво смотрел на свежий ещё крест. Запоздало повинился за всё, совершённое и несовершённое, за все обиды и огорчения, которые сгоряча, по молодой глупости причинял матери. Умом и памятью понимал, что не в чем ему особо перед матерью каяться, не плохим сыном он был, чего уж перед собой обманываться. До последних дней Улиты Григорьевны заботой стариков обихаживал. И всё равно какая-то подспудная сыновняя вина лежала на сердце. Не давящей и гнетущей тяжестью, а каким-то неясным сознанием невыполненного, неосознанного, но крайне обязательного долга. И странное дело. Уходя от могилы матери, чувствовал Семён, всем состоянием души чувствовал, что уходит он другим человеком. Не тем, каким пришёл… Прощённым что ли? Или благословлённым. Но это состояние душевной лёгкости он явственно ощущал и был благодарен матери за это.
Вечером в доме Семёна Пушкарёва собрались гости. Брат Захара Протаст Семёнович, урядник Иван Пушкарёв с женой Аграфеной, сваты Богомоловы, сваты Шильниковы, сваты Чупровы, и Андрей с Дарьей. Устинья приготовила стол. Оно, вроде, и не праздник, и не торжество какое, а проводить хозяина в дорогу дальнюю надо. Обычай требует, чтобы не от пустого стола человек уходил. А стол у хозяйки был вовсе не пустой, хотя и петровский пост уже на пороге. Посреди разлёгся большой рыбный пирог с тайменем – Ильюха поймал. Стряпухи подгадали так, чтобы пирог на стол попал ещё горячим. Когда Дарья рассадила ножом его хрустящую румяно-коричневую корку, то из горячего нутра вместе с клубами пара, вырвался и поплыл по горнице нежнейший аромат речной ухи, неповторимый запах свежей рыбы, чуть сдобренный лавровым листом, луком, и ещё бог знает чем, известным разве что только хозяйке. В больших фаянсовых тарелках рубленые котлеты с гарнирами – картофельными с подливой из пережаренной муки, тушёной в русской печи квашенной, ещё прошлогоднего засола, капустой, гречневой на молоке кашей и лапшой на куриных яйцах. Между ними ютятся холодец из скотских, пополам со свиными, ножек, рулеты из свиной грудинки, нарезанные большими кольцами и украшенные свежей зеленью, исходят паром большие сибирские пельмени. В центре стола красуется пузатый графин с настойкой на бруснике и черёмухе. От ягод она имеет очень приятный тёмно-розовый цвет и искристость. У женщин расставлены красивые рюмки на высоких витых ножках, в них чуть пенится и исходит мельчайшими пузырьками настойка – творение умелых рук хозяйки Устиновны. Да и весь стол – её творение, с обеда хлопочет вместе с Дарьей, свояченницей и задушевной подругой. Голове мысли тревожные не дают покоя, вот и ищет рукам заделье. Тоска и тревога гложет за Семёна – заберут или оставят, ведь сорок лет ему нынче, хватит служить? Но батюшка свёкор считает, что всё-таки придётся Семёну ехать. Устиновна старается думать о хорошем, мыслями в счастливое прошлое унесится.
Поженились они с Семёном рано, ещё до службы. Отец Устиньи, вахмистр Титовской станицы Устин Шильников, служил когда-то вместе с отцом Семёна Пушкарёва Захаром. И после службы казаки, уже и семейными будучи, не забывали, как сухарь пополам делили, как лямку служивскую вместе тянули. При случае заезжали друг к другу на гости.
И вот однажды, двадцать лет назад, дела пригнали Захара в Читу, прихватил и сына с собой. Дорога есть дорога, поопасился один ехать. А вечером, сделав в городе дела, заехали к Шильниковым. Ещё с порога, как только вошёл Семён, захолонуло сердчишко семнадцатилетней девчушки. И Семён потом рассказывал, что сразу понял – это его судьба. В том же году и увезли Устинью на Онон.
А в горнице уже двигали стулья, лавки. Всем распоряжался Андрей, весёлый, сорокадвухлетний казак с бритым лицом. У пушкарёвской породы борода растёт – смех один. Вместо усов нелепо торчащие кисточки по углам рта, да и сама борода редкая и растёт какими-то клочками. Видимо, сильная у бабки Прасковьи Иевлевны кровь – третье поколение следы оставляет.
– Кто хочет быть сыт, садись ближе к хозяйке, кто хочет быть пьян – двинься к хозяину, – приговаривает Андрей.
– Я поближе к тайменю сяду, – гудит из густой, каштановой бороды отец Дарьи, Никанор Богомолов, невысокий, кряжистый казак. – Уж шибко он у тебя, сватья Устинья, духовитый.
– Садись, где поглянется, Никанор Иваныч, будь как дома – ответно улыбается хозяйка.
Андрей с шутками и прибаутками рассаживает гостей, а Семён уже с четвертью наполняет гранёные стаканы.
– Давайте, детушки, выпьем за счастливую дорогу нашему служивому, – голос Захара Семёновича дрожит, на слезу сбивает. «Какой он всё же старый уже», – только сейчас заметил Семён, и в сердце ворохнулась неясная боль. Эта боль уже не оставляла его, и пока гости выпивали и закусывали и по второй и третьей наливали, он всё ловил мыслями эту ноющую боль. Что его так тревожит и волнует? Ну, дорога, ну война, семья остаётся, так ведь и отец дома – доглядит, не даст порушиться, да и сын уже взрослый. Откуда эта ноющая червоточина? Уж не боится ли он – спрашивал себя Семён. Нет, страха за себя не было, это знает точно.
– Постой, Сёма, за царя-батюшку, да за веру православную, – поднялся на ноги с полным стаканом в руке сват Федот Чупров. – За семью не переживай, сообча доглядим, всё, как следовает быть сделаем. Но и себя береги, помни, копьё супостата сердцем не переломишь, – в голосе Чупрова проскакивают и отеческие, и начальственные нотки.
Давно, лет двадцать назад, служил Федот Терентьич станичным атаманом, с тех пор и сберёг в отношениях с земляками тон слегка покровительственный, хотя человек был хороший. Старики мангутяне хорошо помнят, и при случае любят рассказывать о том, какой казус случился при его избрании на Круге. Вот и сейчас, первым не вытерпел Протаст. Выбирая крошки из реденькой пеговатой бороды, с первой рюмки захмелевший старик нацелился вилкой в сидящего напротив Чупрова:
– Сват Федот, а сват Федот! А ты помнишь, как тебя атаманом выбирали?
– Как же не помню. Как сейчас перед глазами стоит. Вы же ить тогда, холера вас забери, кроме себя и за людей никого не считали, – сыпуче рассмеялся моложавый ещё Чупров. – Да чё там – тогда? Со стари так идёт, и по сю пору ничего не меняется.
Дело в том, что в пограничных селениях по Онону казаки жили ещё чуть не за сотню лет до образования Забайкальского казачьего Войска. В Мангуте это были потомки первых десяти фамилий основателей караула. Когда в 1851 году сформировали Войско, обратив в него горнозаводских крестьян, караулы решили усилить новоприборными казаками. Однако гонору у караульцев было хоть отбавляй. Службу с пополнением они охотно разделили, но вот за равных себе их не приняли, за казаков так и не признали, и на все выборные должности могли рассчитывать только старожилы и их потомство. «Пришлых» также ущемили и в земельных, и в имущественных правах… Даже при решении общественных дел, на Круге, вставали отдельно.
И вот однажды, на выборах станичного атамана, кто-то выкрикнул:
– Урядника Чупрова жалаим!
Тридцатидвухлетний Федот был тогда одним из троих на всю станицу урядников. Хотя шишек покрупнее урядника – зауряд-офицеров, и числилось в станице более десятка, но все они служили или числились при войсках, а потому баллотироваться на станичные должности права не имели.
– Это Федота что-ли? А что, подходит.
– Подходит, – дружно поддержали из толпы, – грамотный, холера! На действительной до урядника дослужился, легко ли?
– И хозяин хороший. Этот копейку возьмёт, да две положит!
Великая честь, да хвалебные речи сладкой волной захлестнули молодого урядника. И вдруг, как головой в омут:
– А мы не жалаим, – визгливый старческий тенор резанул уши. – Не жалаим мужиков в атаманы.
Головы всех собравшихся повернулись на кучку стариков, почётно сидевших в тени заплота на широкой скамье. Круг осенило – Чупровы-то ведь и вправду пришлые. Но тут же повернулись обратно. Бледный, как мел, Федот так рванул мундир на груди, что треск раздираемой ткани услышали и старики у заплота, а пуговицы горохом сыпанули в траву:
– Я мужик? – судорога волнами тянула голову урядника к плечу. – Я мужик?
Опешившая толпа и оглянуться не успела, как Чупров схватил чьёго-то привязанного к плетню коня и вихрем умчался в улицу. Сдержанный ропот пробежал по толпе, но уже через минуту бешеный топот коня ворвался в уши собравшихся. Голоуший, в разодранном до пупа мундире, Федот спрыгнул с коня и рванулся к старикам. В руках его дрожала и подпрыгивала настенная, средних размеров рамка, в которых в зажиточных домах обычно держат портреты генералов. Вскоре рамка пошла гулять по рукам. Деревянная, покрытая коричневым лаком оправа заключала в себе витиевато выписанный документ конца семнадцатого века, в котором был отмечен нерчинский конный казак Василий Чупров. После того, как с документом ознакомились даже неграмотные, против урядника Федота уже никто не возражал.
– И так и должно быть! – подал голос дед Шильников, – так и пущай остаётся. Ничего менять не надо.
– Как же, Ульян Данилыч, как же, сват? – вступается Семён. – Так, однако, несправедливо получается. Но старика не так-то просто свернуть с борозды. И без того огненно рыжий Ульян, раскрасневшийся от выпитой самосидки, входит в раж:
– Мы казаки! А казаки от казаков ведутся! – рукав старинного мундира тянет за собой скатерть, позвякивают тарелки. – А они кто? Мужики! Ихние отцы тележного скрыпу боялись, а оне в лампасах красуются… И штоба мы с имя сравнялись? Не бывать тому!
– А ить верно, сват Ульян, – вступает в разговор Протаст. – Я помню, как их пригнали, отставных солдат. Я тогда только с Амура вернулся. Поселили всем скопом в доме вдовы Петра Рудакова. Самой-то Федосьи на ту пору уже и на свете не было, дом заколоченный стоял. Там же и учили их. Так оне на коня-то с плетня залазили, алибо с телеги.
– А и залезет, дык сидит, адали собака на заборе, того и гляди под копыта сверзится, – тряско смеётся Ульян, сквозь рыжую бороду выказывая сахаристо-белые зубы.
Старики ещё немного поволновались, вспоминая прошлые годы, тоскуя по ушедшей силе и молодости, но вскоре хмель и возраст берут своё, и разговор затихает.
А разрумянившаяся Дарья подвигает Ивана начать песню. Иван торопливо прожёвывает, смачивает горло и начинает басовым чистым речитативом:
В чистом поле под кусто-о-ом,
Ямщика-а уби-или-и – вступила Аграфена.
Ме-е-ня-я мла-аду-у,
Ой, да взяли в плен.
Иван уже второй срок дослуживает в станичных судьях. И во внешности, и во всех делах своих он всегда сохраняет серьёзность и деловитость. Ровный по характеру, и песню ведёт ровно, задумчиво подперев кулаком щёку, пальцами другой руки медленно закручивает бахрому праздничной скатерти.
Меня младу брали в плен
Ой, брали и садили
На быстрого
Ой, да на коня.
Песня в исполнении трудная, но очень красивые переливы у неё. Поют все. Песня семейная, давно изученная и напетая.
Семён с Андреем вышли на воздух, прошли за ворота и присели на тополь. Над Монголией ходили всполохи, далёкую черноту неба прорезывала неслышная ещё гроза. В воздухе явственно пахло дождём, от того дышать было легко и просторно. В конце улицы послышался слитный топот сотен копыт, и вскоре подъехали две сотни казаков.
– Здорово, станишники! Где тут у вас школа? – спросил из темноты хрипловатый голос.
– Здорово, ребята! Вы откуда? Зачем вам школа?
– Сводный полк Букукунской и Верхне-Ульхунской станиц, – молодцевато и в то же время насмешливо ответил явно вахмистерский голос, – ночевать будем там.
Когда «полк» скрылся в переулке, Андрей спросил:
– Ты-то своего объездил? Как назвал-то его, забыл спросить…
– Яшкой назвал. Да, вроде, объездил.
– Ну, и как?
– Дык, пока рано, Андрюха, говорить. Время покажет. Ты вот чё, братка, за отцом тут присматривай, постарел он резко как-то. Взглянул на него сегодня и сердце сжалось.
– Не переживай, догляжу. Это он об тебе убивается, а виду показать не хочет. Ладно, я думаю, вы там с этими хунхузами долго канителиться не будете. Гляди, да ишо и покос захватишь, – попытался Андрей приободрить брата, да и себя тоже, – пошли в дом, там уж потеряли нас.
А за столом уже довольно шумно. Басят старики, оба сильно оглохли, гудят друг другу в ухо. Иван в кругу женщин чувствует себя как в малиннике. Подливает настойку в рюмки, себя не забывает, нет-нет, да и потянется к четверти, но Аграфена блюдёт. Андрей, ещё не садясь, завёл:
Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, кого-то ждёт.
Родная матерь горько плачет,
Молодка горьки слёзы льёт.
Женщины в непереносимой чувствительности своей подхватывают надрывными голосами. Иван мотает чубатой головой, в такт песни рубит воздух сжатым кулаком. Дед Протаст, бывший казак Амурской бригады, хлебнул в молодости лиха немало, во всех муравьёвских сплавах участвовал. Его рассказы можно до утра слушать. Казачья прощальная песня до самой глубины пронзает душу. По щекам старого «амурца», глубоко проваливаясь в морщинах, текут и текут мелкие светлые слезинки. Захар Семёнович не смог выдержать надрыва песни, вышел. Прижался полыхающим лбом к стене амбара, закусил ворот сарпинковой рубашки, а плечи безудержно сотрясают рыдания…