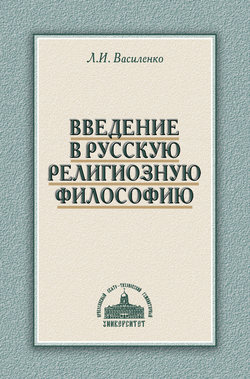Читать книгу Введение в русскую религиозную философию - Л. И. Василенко - Страница 13
Раздел I. Проблемно-тематическое самоопределение русской религиозно-философской мысли
Глава 3. Константин Леонтьев
§ 2. Византизм и русская государственность
ОглавлениеВ византизме Леонтьев нашел ответ на вопрос, как достичь величия России на путях суровой реакции, если славянский этнический материал не подходит. Этому посвящена его основная книга «Византизм и славянство». Термин «византизм» или «византинизм» (нем. Byzantinismus) введен в широкий оборот западными авторами для критики политизированного христианства, в качестве примера которого была избрана Византия. Византизм означает здесь системно выстроенное единство империи и Церкви с приматом империи, лишающей Церковь возможности свободно свидетельствовать Истину во всей ее полноте и действовать согласно Истине. Один из этих авторов Я. Буркхардт обвинял Византию (т. е. православие в Византии) в насаждении греховного духа прислужничества власти. Как он думал, невозможны никакие формы государственного христианства, безупречные с точки зрения евангельского идеала, а если таковые появились, их нужно поставить в один ряд с языческими империями прошлого или исламскими режимами. В результате таких рассуждений Византии, а значит и ее наследнице России, нет места в Европе, которая отделила светское от духовного, чтобы открыть пути рационализации и модернизации общественной жизни.
Петр Чаадаев тоже писал о Византии нечто подобное. Внимательно ли читал Леонтьев Буркхардта, трудно судить, но в полемику по вопросам византизма он вступил как защитник того, с чем Буркхардт спорил. На первое место Леонтьев ставил политические аргументы. Когда император Константин и его преемники создавали Византийскую империю, рассуждал Леонтьев, им достался очень плохой человеческий материал, продукт разложения поздней античности. Тем не менее Византии удалось на Востоке спасти положение, поставив древнее православие на службу империи, превратив его в строгий религиозный уклад. Византия простояла до XV в. – на тысячу лет дольше Древнего Рима. Если мы примем византийский имперский идеал, делал вывод Леонтьев, то сможем надолго приостановить процесс деградации, хотя и не навсегда.
«Византизм в государстве значит – самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире, мы знаем, византийский материал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом; знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что оно есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства» (4, с. 19–20).
Византийское наследие Леонтьев ценил не столько за то, что в нем были великие святые и Отцы Церкви, сколько за религиознополитическую весомость. Россия, писал он, сохранила больше от византизма и в лучшем виде, чем кто-либо еще. Он придал ему значение абсолютное, а не только историческое. Однако над-исторического византизма не существует, и на повторение его успеха не следует рассчитывать. Византизм в свое время тоже старел, изнашивался, деградировал. Идеал Леонтьева – сильное религиозное государство, в котором есть многоуровневое социальное разнообразие в виде многих сословий с четко определенными законом ролями, с аристократической опорой монархии, с суровыми карами за неисполнение закона, с привычкой народа к повиновению и страху перед властью. Империя, главенство Царя, с одной стороны, и Церковь – с другой, незыблемость «единства власти и господства веры» (3, с. 258).
Но в каком положении окажется Церковь? Разве нет борьбы империи с Церковью, расхождения между миссией Церкви и делом империи? Не теряла ли Российская империя чувство своей миссии перед своим концом? И насколько Российская империя – наследница именно византизма, если сам Леонтьев относился к ней весьма критически? Здесь Леонтьев менее ясен, но слабость духовной власти в русской Церкви и неудовлетворительное состояние монашества вызывали его озабоченность. Иерархия должна быть более независимой, более смелой и властной. Церковь вместе с тем должна смягчать государственность. При строгости законов следует учить людей быть добрее.
Леонтьева привлекала идея Соловьева, что Церковь нуждается в большей свободе и развитии: «…Развившаяся дальше церковь станет многолична и многовластна, даже и при некоторой соборно-аристократической централизации на Босфоре» (3, с. 216). Иначе говоря, независимая православная иерархия в Константинополе нужна Церкви в России. Косвенно это критика синодальной системы и допущение, что в Киевский период церковно-государственные отношения были лучше. По поводу таких слов можно поставить куда больше вопросов, чем получить ответов. Леонтьев хотел видеть на Востоке не просто сосуществование отдельных православных церквей, а высокую степень их внутреннего единства в противостоянии Риму, который важен был для Соловьева.
Прот. Иоанн Мейендорф не занимался разбором всего творческого наследия Леонтьева, но отметил, что византийский религиозно-политический идеал существовал в ином виде, как его выразил в XIV в. патриарх Константинопольский Антоний: «Невозможно христианам иметь Церковь и не иметь императора. Между Церковью и империей есть великое единство и общность, и их невозможно отделить друг от друга» (10, с. 229). Основа же этого единства – общая преданность Христу, Христова власть над всеми в Церкви и государстве, неразделимость Божественного и человеческого как в личной, так и в общественной жизни. «Без Бога не может быть ни личного, ни общественного совершенства» (с. 230).
Такое понимание византизма отличается от леонтьевского и является более привлекательным. Но обмирщение общества ведет к практической нереализуемости и этого идеала. Леонтьев истолковал бы это в пользу своего жесткого понимания. Но возникают другие – не-леонтьевские – вопросы. Разве не началось обмирщение христианского общества еще в IV в.? Насколько глубокой была христианизация византийского общества во все века, начиная с Миланского эдикта? «Была ли Византия столь полно преобразована и преображена как общество, что находилась в полном соответствии с замыслом Божиим о тварном мире, или она все же оставалась падшим обществом – во власти греха, зла и смерти?» (10, с. 230). Не случайно столь восхищавшие Леонтьева монахи совершали великое отречение и уходили из обмирщенных византийских городов в пустыни, чтобы не подчиняться тем требованиям, которые им навязывала империя. Из пустыни они приходили для борьбы с империей, когда она пыталась своей земной правдой, а иногда и явной ересью, подменить истину Христову, и для напоминания, что гармония империи и Церкви в земных исторических условиях невозможна. В этом – великое пророческое значение монашества в истории, которое Леонтьев оставил в тени.
Своей ли силой стоял византизм или по милости Божией, по молитвам византийских святых, пока чаша грехов, наконец, не переполнилась? Не-леонтьевский вопрос, не-леонтьевский будет и ответ. И все же Леонтьева можно понять и в чем-то принять, хотя и далеко не во всем. Однажды он заявил, что если верующий человек не фанатик своей веры, то это только личная слабость его, и больше ничего. Несложно возразить, что если где и учат фанатизму, то не в Евангелии, но все же надо мужественно защищать свои святыни – тут Леонтьев прав.
Леонтьева называли почвенником лишь в силу того, что он выступал за охранение. Не всякую Россию он готов был любить, а только должным образом организованную. Надежды К. Аксакова на земство, на самобытную общину как носителя нравственной правды были ему совершенно чужды. Он не верил в величие народа и его будущей христианской культуры, он просто не верил в силу духа православного человека. Не рисковать с доверием к нему и к церковной соборности, не пытаться сделать социальную ситуацию лучше, не думать, что можно и нужно самим становиться другими для лучшей России, вообще никаких рисков в преддверии заранее проигранного исторического будущего России. Лишь немного отложить крах России, сделав ставку на силу величавого и грозного государства, способного суровыми мерами взнуздать ненадежный народ. Он верил в подъем государства в русле сумрачно понятого византизма, и только от сильного и решительного государства готов был ждать осуществления культурной миссии: «Государственная мощь – это тайный железный остов, на котором великий художник – история – формирует прекрасные и могучие формы культурной жизни» (15, с. 417).
Еще не все потеряно, писал он. Монархия может блокировать установление конституционного строя, либерализацию и слепые национальные страсти. Главное – «надолго задержать народные толпы (на неизбежном впрочем) пути к безверию и разнородному своеверию» (с. 290). Для этого нужен Царь – сильный и страшный, которого боялись бы и любили, нужна энергичная работа политической элиты и администрации, необходимо пробуждение духовенства «от своего векового сна», которое идет «слишком нерешительно и медленно» (с. 290).
Да, чарующая магия сильного государства имела над душой Леонтьева немалую власть. С. Франк писал: «Если эти мысли сопоставить с упомянутой ранее пессимистической оценкой культурного бессилия и аморфности Востока, то результатом станет жуткое предсказание русского большевизма. В любом случае Леонтьев ясно сознавал упадок либеральной демократии и приход примитивного деспотизма, каким является и фашизм, и большевизм» (15, с. 419). Но не только это. Известно другое отношение к социальным реформам, выраженное П. Столыпиным: в России либеральные преобразования могут осуществляться только в условиях сильной диктатуры. Что-то есть тут от суровости Леонтьева, хотя он мог бы возразить: уже поздно.
Бердяев писал, что мышление Леонтьева осталось медицинским, а не гуманитарно-философским. Если соглашаться, то все, сказанное Леонтьевым о государстве и России, приобретает следующий смысл: тяжкая социальная патология предложенного им диктаторского режима надолго отложит день смерти безнадежно больного социального организма страны. Если и так, надолго ли? Леонтьев предложил нетворческую реакцию на вызов Запада: деградирующее общество замедлит процесс агонии, приняв проект жесткого силового режима, но расплатой будет превращение режима в идола, который усугубит моральное разложение нации. Леонтьев не придал этому должного значения, как и тому, что духовное возрождение народа все же возможно на путях покаяния, служения и верности Господу.
Славянофилы начали готовить другой – конструктивный – проект: обрести жизненную силу для духовного возрождения страны через восстановление духовно-исторической памяти народа, через возврат к истокам православия и церковное созидание разумно-свободной личности (Киреевский), и соборной общинной среды (Хомяков), в которой и осуществился бы ответ на вызовы модернизации. Проект, однако, завяз в дискуссиях и исказился, не претворившись в духовно здоровые и практичные программы действий, что и оттолкнуло не только Леонтьева.
А если с византизмом ничего не выйдет? Бердяев заметил, что если бы нашлась разумная и сильная религиозно-политическая иерархия в Тибете или в Китае, можно было бы, согласно Леонтьеву, обратиться и к ней, чтобы остановить вырождение славянства, и неважно, что там нет православия, – главное, с точки зрения политической, чтобы была культура зрелого, решительного и опытного консерватизма. Но этого там нет, значит надо делать ставку на византизм. Византизм со всеми своими амбициями, однако, рухнул под ударами сил Ислама, поэтому следует ли русским на него рассчитывать? А если нет, что же взамен, когда Запад нам чужд, как и мы ему?
Оппонентам, задающим подобные вопросы, Леонтьев, наверное, ответил бы: примем иго Ислама (или, как теперь больше опасаются, Китая), если так повелит положение вещей, т. е. судьба. Подобных строк, впрочем, у него нет, но вывод напрашивается. Этому выводу соответствует его мнение, что для православных болгар власть турецкой Порты была духовно не так опасна, как подлая свобода европейского либерализма, поэтому азиатское иго в России отрезвило и мобилизовало бы православных. Само православие, каким он его видел в XIX в., по его оценке, уже не в силах отрезвить наш народ и спасти его от морального разложения. Это по-своему понятно, если вспомнить, что до своего обращения Леонтьев относился к православию без особого энтузиазма, пока его не отрезвил страх Божий в смертельно опасной, как он решил, ситуации.
Приведем признание о. Георгия Флоровского: «Мучительная и страдная религиозная драма самого Леонтьева не должна заслонять от нас того неожиданного факта, что у него не было христианской философии истории, – ее заменяла натуралистическая морфология исторической жизни, невольно перерождавшаяся в нехристианскую философию истории» (9, с. 330). Теме византизма о. Георгий посвятил, например, немалую часть статьи «Империя и пустыня», где о единстве Церкви и Царства сказано так: «Это была смелая попытка, грандиозный замысел, необыкновенное достижение. Но достижение также подозрительное и неоднозначное: ведь два устройства, “духовное” и “мирское”, невозможно по-настоящему соединить воедино» (18, с. 265).
«Содружество» между ними, вопреки Леонтьеву, следует признать неустойчивым и ненадежным. Неудачу Византии следует оценивать не по критериям авторов, против которых выступил Леонтьев, а исходя из сути той правды, на осуществление которой претендовала Византия. Ее хорошо выразила «Эпанагога» патриарха Фотия (IX в.). В ней мы видим прежде всего единство Императора и Патриарха, единодушие царства и священства в общем деле свидетельства и защиты Истины Христовой и обеспечения мира и процветания верующего народа. Патриарх при этом должен лично жить во Христе и «без страха свидетельствовать императору о православной вере» (18, с. 272). Осуществить это, однако, не удалось. «Византия пала как Христианское Царство под бременем своих невероятных притязаний» (с. 273).
Следует, тем не менее, отдать должное Леонтьеву за то, что он вернул достойное место в тогдашней полемике вопросу о византийских корнях русского православия и русской государственности. Многие славянофилы, а особенно современники Леонтьева, от этого вопроса оказались далеки, кроме Киреевского, который обратил особо пристальное внимание на византийские корни русской православной духовности и культуры. Вместе с тем, византизм и поныне не без протеста против политизирующего влияния Леонтьева часто оценивают (с известной упрощенностью) просто как имперско-охранительную идеологию с признаками фарисейства и вспоминают оппонента Леонтьева Соловьева, который убеждал всех, что в византизме были одни только грехи, и утверждал, что именно византизм погубил великую Византию (19). О полемике вокруг наследия Леонтьева см. Приложение 3, а также в связи с Соловьевым параграф 2 главы 6.
Вопросы:
1. Насколько соответствует истине критика византизма западными авторами и ее защита Леонтьевым?
2. Что упущено было из византийского наследия Леонтьевым и его критиками?
3. Охарактеризуйте взаимоотношения Леонтьева со славянофилами.
4. Эсхатологический пессимизм Леонтьева и его суть.
Литература:
1. Леонтьев К.Н. Собр. соч. в 9 тт. М., 1912-14.
2. Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем в 12 тт. СПб., 2000 и сл.
3. Леонтьев К. Избранное. М., 1993.
4. Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992.
5. Леонтьев К. О всемирной любви (речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике) // Ф.М. Достоевский и Православие. М., 1997.
6. Леонтьев К. Избранные письма (1854–1891). СПб., 1993.
7. Константин Леонтьев: Pro et contra. В 2-х кн. СПб., 1995.
8. Булгаков С.Н. Победитель – побежденный (Судьба К. Н. Леонтьева) // Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996.
9. Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998.
10. Мейендорф И., прот. Православие в современном мире. М., 1997.
11. Н. Бердяев о русской философии. В 2-х ч. Ч. 1. Свердловск, 1991.
12. Концевич И.М. Оптина Пустынь и ее время. Сергиев Посад; Владимир, 1995.
13. Розанов В.В. Соч. В 2-х тт. Т. 2. Уединенное. М., 1990.
14. Соловьев В.С. Памяти К. Н. Леонтьева // Соловьев В.С. Собр. соч. 2-е изд. СПб., б.г. T. IX.
15. Франк С. Русское мировоззрение. СПб., 1996.
16. Константин Леонтьев, наш современник. СПб., 1993.
17. Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990.
18. Флоровский Г., прот. Догмат и история. М., 1998.
19. Петр (Мещеринов), игумен. Владимир Соловьев и национальный вопрос. // Церковный вестник. М., 2005. № 13–14.