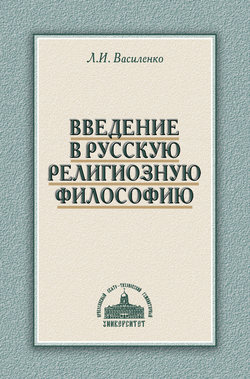Читать книгу Введение в русскую религиозную философию - Л. И. Василенко - Страница 16
Раздел II. Вокруг метафизики Всеединства Владимира Соловьева
Глава 6. Владимир Соловьев
§ 1. Жизненный путь
ОглавлениеВладимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) – один из самых ярких, известных и спорных религиозных философов России. Удивительно одаренный человек, он многое успел сделать за свою недолгую жизнь. Оценки его наследия самые разные. Бердяев назвал его пророком, некоторые считали чуть ли не святым, а другие – едва ли не еретиком; одни уверяли, что он ушел из православия к католикам, другие – что католиком не стал, поскольку и не собирался. Сам Соловьев в общем тяготел к православию и под конец жизни исповедался у православного священника, причастился и умер в мире с Церковью.
Поначалу он приобщился к церковности в глубоко религиозной семье своего отца – известного историка С.М. Соловьева. В юности, как и многие тогда, выпал из Церкви, увлекался позитивизмом, деизмом, протестантством, пантеизмом, гнозисом… Став студентом университета, Соловьев начал непростым путем возвращаться к вере – через Спинозу, Канта, Шопенгауэра и великих идеалистов Шеллинга и Гегеля. И лишь в поздние годы жизни его вера стала приобретать церковные черты. Постепенно он осознал свою жизненную задачу – философски «оправдать веру отцов» и служить истинному христианству.
Он имел «активнейший общественный темперамент» (С. Хоружий) и на первое место поставил социальные задачи христианства: «Сущность истинного христианства есть перерождение человечества и мира в духе Христовом, превращение мирского царства в Царство Божие (которое не от мира сего)» (6, т. VI, с. 381). В этих ранних словах мы видим некритическое повторение точки зрения Чаадаева, которого он тогда еще не читал, тоже ревнителя социально активного христианства, что история ведет в Царство Божие путем постепенного эволюционного процесса. «Юношеские письма его, – заметил С. Франк, – лишний раз подтверждают, что Соловьев именно по натуре и по непосредственному своему мироощущению был в гораздо большей мере религиозным реформатором и проповедником, чем чистым философом» (3, с. 385).
И здесь его подстерегало искушение – настороженно держаться на расстоянии от социально пассивного, как он считал, русского православия, не спешить с полным воцерковлением и оставаться каким-то церковным маргиналом, склонным искать источники истины среди других малоцерковных или околоцерковных христианских маргиналов, особенно если у них большой мистический дар. Это не означает, конечно, что он не считал себя православным, время от времени он участвовал в богослужениях, но, надо думать, без всецелого чувства принадлежности и без ответственного отношения к дисциплине церковной жизни. Ему, как отмечали современники, в тот период не приходило в голову, что лучше подумать о том, как самому «оправдаться верой отцов», чем интеллектуально оправдывать церковную веру.
Соловьев понимал свою задачу в эти годы так: сначала раскрыть средствами философски просвещенного разума содержание христианской веры, а затем осуществить истинное христианство в жизни, преодолеть темные ее стороны на путях реформы. Религиозно восполненный идеализм, – таков его выбор в этот период. Замечали в ответ: во-первых, идеализм – это «криптогностицизм» (Флоровский), что не могло себя не проявить, а, во-вторых, аскетическая работа над собой в русле основательного церковного окормления здесь не получила должного места.
Недолгое время он провел в МДА в качестве вольнослушателя, где общался с монахами и преподавателями, но держался особняком. Стремясь к широкой творческой деятельности, он не пошел бы на смиренное послушание монаха или служение приходского священника. В 1874 г. он защитил магистерскую диссертацию «Кризис западной философии», направленную против позитивизма. Левая профессура возмутилась тем, что он открыто предлагал вернуть философию и науку к религиозным корням. Но оппоненты проиграли спор, и один из современников писал: «Россию можно поздравить с гениальным человеком» (4, кн. I, с. 416).
Искушения, однако, продолжались. Его увлекли мистические искания Софии. Первая встреча с той неземной «дамой», которую он хотел считать Софией, была еще в детстве. После Академии Соловьев направился в лондонскую Библиотеку изучать восточные, гностические и средневековые трактаты на тему о Софии. Интересовался также Каббалой. В Лондоне вновь встретил помянутую запредельную даму, по зову которой поехал в Египет, где увидел ее в третий раз, что и описал в позднем стихотворении «Три свидания». От этих видений он ждал ключевых идей, которые ввели бы его в глубину бытия.
Психологический контекст некоторых из этих видений был сумрачным. В Лондоне его преследовал демон, обещая скорую гибель. Соловьев занялся там ненадолго спиритизмом и оценил его в письмах как нечто весьма жалкое. Там же, не без влияния той «дамы», думал о проекте универсальной религии будущего, «синтезе всех религий», с сохранением всего положительного из разных религий, но без их «узости», «эгоистичности» и пр. Однажды он назвал этот синтез «религией Св. Духа» и одно время подумывал о создании особого духовного ордена ревнителей такого синтеза, но он не организатор по темпераменту, и дело не состоялось.
Как соотнести «синтез» разных религий с историческим христианством, оставалось неясным. Соловьев отверг теософское псевдопримирение религий в духе Блаватской, когда устраняют главное – Бога, Его воплощение во Христе, искупление, спасение души. Соловьев противопоставил этому свое понимание «синтеза», назвав его «свободной теософией», авторство которой приписал Софии. «Религия должна быть всеобщею и единою» (6, т. III, c. 38), «с религиозной точки зрения целью является не minimum, а maximum положительного содержания» (с. 39), – писал он несколько лет спустя. «Свободная теософия» располагала к тому, чтобы оставаться маргиналом по отношению не только к Церкви и православному богословию, но и к строгой философии. Искание максимума, напротив, вело его к Богочеловеку Христу.
Вернувшись в Московский университет, Соловьев занял место уже умершего П. Юркевича, недолго преподавал, уклоняясь от присоединения к каким-либо партиям преподавателей, и вскоре оставил университет из-за одного конфликта и в силу своего общего страннического настроя. Затем он перебрался в Петербург и прочитал в 1878–1881 гг. 12 лекций о Богочеловечестве на Высших женских курсах. Грядет, возвещал он, раскрытие вселенского христианства: Богочеловечество – главное в христианстве и основа будущего его подъема.
В 1880 г. Соловьев защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал». В 1881 г. умирает Достоевский. Соловьев посвятил ему три речи, где воздал великому писателю хвалу за то, что тот увидел в русском православии истинное христианство, прообраз той Церкви, которую Россия должна свидетельствовать миру, чтобы помочь всем христианам уврачевать вековые расколы и раздоры. Россия стоит между двумя великими мирами – Востоком и Западом; Византия не смогла их примирить, значит, к этому призвана Россия.
В 1881 г. после убийства государя императора Александра II Соловьев призвал молодого царя-преемника воздержаться от смертной казни террористов во имя христианской правды. Репрессий не последовало, но говорили о негласном полицейском надзоре и о том, что государь рекомендовал генерал-адъютанту Лорис-Меликову сделать Соловьеву «внушение за неуместные суждения» и посоветовать ему временно воздержался от преподавания. Соловьев понял, что пора писать прошение об отставке из Министерства Народного Просвещения, где он тогда работал. Он на какое-то время отошел от философии, стал писать о расколе в русском православии, о вине католичества в антихристианской направленности развития Запада, о протестантстве как вторичном уклонении и пр. Сущность Церкви Соловьев в это время понимал как имеющую «вселенский кафолический характер». Наметился отход от былой «универсальной религии».
Рубеж 1882–1883 г. стал кризисным в духовной жизни Соловьева: он решил, после разочарования в русской государственности и церковности, что католичество – это идеал истинного вселенского христианства, способного организовать человечество на основе христианского идеала. Тем временем он написал «Духовные основы жизни» (1884) – светлую книгу о вере, благодати, молитве, посте, милостыне, таинствах, церковной жизни, грехе и смерти. Образ Христа является главным критерием для проверки нашей совести – этим он завершил свою книгу. В ней он позже не нашел нужным ничего исправлять. Казалось бы, написал человек глубоко воцерковившийся. Но оставалось сильным желание искать истину над церквами. Его великую душу ожидало тяжелое искушение «теократией» (греч. «боговластие»): «Церковь, будучи неподвижной и неизменной святыней, должна быть вместе с тем и деятельной властью. Эта духовная власть Церкви руководит человечеством и ведет мир к его цели, т. е. к соединению всех в одно богочеловеческое тело…» (6, т. IV, с. 51). Власть над человечеством, никак не меньше…
Раньше Соловьев писал, как и славянофилы, о властолюбии Рима, о цезаристских амбициях папизма. Полемизируя с папизмом, он думал об «истинной теократии». Но, видя слабость духовной власти в России, Соловьев стал понимать теократию как земное могущество Церкви, ратовал за сильную и независимую религиозную власть, способную осуществить Всеединство и Царство Божие на земле, примирить католиков и православных. Теократию, которая означает, что один только Бог имеет полноту власти в Церкви, Соловьев заменил на римскую иерократию. Это приблизило его взгляды к сумрачному I Ватиканскому собору 1870 г.
Незаконченная работа «История и будущность теократии» (1886) вместе с книгой «Россия и Вселенская Церковь» (1889) – результат увлечений этого периода. Последняя вышла по-французски в Париже. Соловьев сопоставил папу римского с Отцом Небесным, царя – с Сыном, а Святого Духа – с пророческим служением. Царь, сыновне послушный папе, – это император российский, а исполнитель третьей пророческой роли не совсем ясен, но можно предполагать, что она отводится таким, как Соловьев: пророк – это «вершина стыда и совести», бесстрашный и независимый общественный деятель (6, т. VIII, с. 509). Вселенское христианство превратилось во вселенскую Церковь, управляемую из Рима.
Все это напоминает наивные мечты В.С. Печерина: «Придет великий русский император, я вижу его, вот он приближается к Риму, вот он у ног Верховного Первосвященника, он склоняется перед ним, предлагая ему свою корону и империю, он превращает Россию в ленное владение Св. Престола» («Символ», 2001. № 44. С. 106). Оба они пренебрегли словами Христовыми «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). Но долго ли мог Соловьев оставлять их без внимания?
С.М. Соловьев, его племянник и биограф, писал: «Крушение Истории Теократии было в том, что вторая ее часть, вышедшая на французском языке под заглавием “La Russie et l'Eglise universelle” [“Россия и Вселенская Церковь”], явилась лишь апологией католичества» (7, с. 149). Некоторые возражали: это не столько апология, сколько его собственный проект, который католикам был не нужен. Вопреки этому Бердяев настаивал: «Он вырабатывал проекты унии. … Соловьев защищает папизм обычными католическими аргументами, которые можно найти у любого католического богослова. Оригинально было лишь то, что аргументы эти исходили от русского» (2, с. 361). Здесь была та самая уния, которую он отвергал сердцем, но на время допустил интеллектуально. Но только на время.
Соловьев решил поехать в Рим. Московские друзья предупреждали: смотри, вернешься обратно Лютером. Соловьев направился в Югославию к еп. Иосифу Штроссмайеру, занимавшемуся «униональной работой» (униями местного значения), чтобы через него выйти на папу Льва XIII. Но тут начались сложности. Лев XIII, по-своему практичный, прочитал его «Русскую идею» и увидел у автора всего лишь религиозный идеализм: «Прекрасная идея, но без чуда это вещь невозможная» (8, т. IV, с. 119). Иезуиты критиковали «за вольнодумство, мечтательность и мистицизм». Соловьев с горечью писал: «Вот Вам в двух словах мое окончательное отношение к папизму: я его понимаю и принимаю tel quel, но он меня не понимает и не принимает, я его вместил в себя, в свой духовный мир, а он меня вместить не может, я пользуюсь им как элементом и орудием истины, а он не может сделать из меня своего орудия и элемента. Бог превратил для меня латинский камень в хлеб и иезуитскую змею в рыбу, а дьявол сделал для них мой хлеб камнем преткновения и мою рыбу – ядовитою змеею» (5, с. 288).
Соловьев уклонился от встречи с Львом XIII. Папа принял бы его не иначе как только в качестве «заблудшей овцы», готовой послушно вернуться в «стадо верных» под главенством «викария Христа». Иной вариант, кроме «кающегося схизматика», невозможно себе представить. Соловьев, как поняли многие современники, напрашивался на другое – стать третьей фигурой в мировой теократии, а это амбиция редкостная. (Сам он, впрочем, писал: «Я в пророки возведен врагами»).
Вернувшись, Соловьев написал архим. Антонию (Вадковскому): «На попытки обращения, направленные против меня лично, я отвечал прежде всего тем, что (в необычайное для сего время) исповедался и причастился в православной сербской церкви в Загребе, у настоятеля ее о. иеромонаха Амвросия. Вообще я вернулся в Россию, – если так можно сказать, – более православным, нежели как из нее уехал» (6, т. XI, c. 370). Другие слова Соловьева тому же адресату: «В латинство никогда не перейду» (c. 369). Вновь писал он о том, что «была бы зловредной всякая внешняя уния и всякое частное обращение» (с. 370). Архим. Антоний немедленно ответил: письмо «принесло мне истинную радость» и «при настоящем жалком положении наших церковных дел… выход из Церкви таких полных жизни, могучих и сильных членов ее, как Вы, поистине был бы великим несчастьем» (14, с. 349).
«Теократию» Соловьев не завершает и переходит к более скромному философскому и литературному труду. «Муза Соловьева почти замолкла с 1887 г.», – отмечает С. Соловьев (5, с. 300). В России от него многие отшатнулись, включая и обер-прокурора К. Победоносцева. Соловьев остался почти один среди непонимания и злословия. В конце 1886 г. он направился в Троице-Сергиеву Лавру, где около трех недель жил, молился и размышлял о монашестве. Монахи хотели бы видеть его среди братии, но Соловьев опасался подмен, призвание не определилось, да и желание не созрело. Соловьев дорожил «свободой, обусловленной искренним подчинением тому, что свято и законно», и боялся, что от него «потребуют подчинения всему без разбора» (8, т. III, с. 191). Пять лет спустя был на Валааме, но снова с отрицательным результатом.
Соловьев вернулся к творческой работе усталым и больным. В связи с 900-летием крещения Руси написал статью «Владимир Святой и христианское государство» (1888), где о православии высказался мрачнее, чем когда-либо: «На Востоке была лишь Церковь дезертирствующая» (6, т. XI, c. 125); «Восточная Церковь отреклась от своей власти в пользу светской» (с. 130); светская же власть «с не меньшей необходимостью пришла к антихристианскому абсолютизму» (с. 134), а итоговый вывод: наиболее решительная часть русских раскольников «превосходно выразила самую сущность нашего национального вопроса, заявив, что цезарепапистское Государство и официальная Церковь как его орудие представляют царство антихриста» (там же). После такой уничтожающей оценки, какую не позволял себе и Чаадаев, непонятно, как оставаться в православии и признавать Церковь своей Матерью? Это была тяжелая душевная смута. К. Мочульский писал: Соловьев «изменяет своей идее вселенскости и всю православную Церковь отдает антихристу. Но тогда “дело его жизни” теряет всякий смысл» (9, с. 167).
К началу 90-х гг. – новый кризис в духовной жизни Соловьева. Миновала последняя эротическая буря, оставив душу опустошенной. Он отдаляется от Церкви и возвращается к философии и публицистике. Скандальным докладом «Об упадке средневекового миросозерцания» он вызвал возмущение всех, в том числе и уважавшего его К. Леонтьева, который высказался, как всегда, своеобразно: «Куда он теперь пойдет? К иезуитам? Но они здесь не с ним, а с нами» (цит. по: 5, с. 303). Соловьев заявил, что вместо христиан дело Божие в мире совершают неверующие. Оппоненты, не стесняясь, обвинили, что он глумится над Церковью. Соловьев отвечал, что его выпады относились «исключительно к тем мирянам худой жизни, которые лицемерно стоят за идеал личной святости и благочестия, чтобы под этим предлогом избавить себя от всякого труда на общую пользу» (8, т. III, с. 197). Это несколько меняет дело. Отойдя вскоре от полемических крайностей этого доклада, Соловьев сохранил верность тому, что он определил для себя раньше, размышляя о духовных путях России: самобытность русского православного духовного опыта следует сочетать с европейскими правовыми идеями и социальной ответственностью христиан за все происходящее в обществе и культуре. Это означало, что он продолжал оставаться вне лагерей западников и славянофилов.
После ряда путешествий Соловьев собирается с силами и три года (1894–1897) пишет «Оправдание добра», с целью «показать добро как правду, т. е. как единственный правый, верный себе путь жизни во всем и до конца» (6, т. VIII, c. 3). Верить в добро и верить в нравственную силу права, определять практические пути социальной реализации добра и права – основное в этой книге. Теократии в ней уже нет.
В 1895 г. Соловьев пишет статью «Византизм и Россия», наиболее безжалостную по отношению к византийскому благочестию, где «византизм» отождествляется только со своими грехами. Причастился в 1896 г. у католика-униата, но без совершения акта перехода в католичество (см. Приложение 4). Направил государю императору Николаю II просьбу о возвращении духовной свободы Православной Церкви и о свободе совести для всех граждан (6, т. XI, c. 452–456). Сблизился с князьями Трубецкими. Идеи книги Л. Толстого «В чем моя вера?» оценил вопросом: «Ревет ли зверь в лесу глухом?», а некоторым его строкам давал комментарий: «Под ними хаос шевелится». Но это – самое мягкое, скорее ироническое; толстовство он позднее оценил как предзнаменование антихристова духа (см. далее). В. Розанова порицал за «оргиазм и пифизм» и сравнивал с Иудушкой Головлевым.
Появляются новые темы – угроза с Востока, «желтая опасность панмонголизма», темное гибельное начало в «душе России», ожидание военного разгрома России и ее политического падения как кары за исторические грехи. Соловьев предчувствовал катастрофы XX в., а за ними, как до него Леонтьев, провидел явление антихриста, создание им мировой империи и приближение Судного дня.
Есть одно мрачное место из его переписки тех дней: «Надо быть готовым к тому, что девяносто девять священников и монахов из ста объявят себя за антихриста» (8, т. IV, с. 222). Соловьев имел в виду и католиков, и православных, и протестантов. Непонятно, из какой статистики можно вывести такой убийственный процент, но расставание с былыми пристрастиями и увлечениями налицо. И если Соловьев цифру привел, это выразило его сомнения в том, стоит ли заниматься церковной полемикой дальше.
Приближалась смерть, время от времени ощущалось присутствие душ ранее отошедших друзей. Духовный опыт становился более зрелым и смиренным. Менялось отношение к Матери-Церкви, и Соловьев, наконец, признал, что Церковь в России осталась верна правде Христовой, несмотря на грехи многих своих членов. Начались пересмотры основных идей прежних трудов. Соловьев отказывается от былого мнения, что христианство является всепримиряющим и всеобъединяющим началом, и признает, что существует «духовное зерно зла: ненависть к истине за то добро, которое она выражает, которого она требует и к которому ведет» (т. Х, с. 53). Это ставит под вопрос метафизику Всеединства. Он не удовлетворен написанным ранее, к новым философским трудам он подходит более тщательно, основательно и ответственно. Верность Соловьева Христу становится более трезвой, серьезной и мужественной. Финальное проявление зла, писал он, будет под личиной добра; будет самый крупный из всех мыслимых обманов в мировой истории; будет антихрист, столкновение христиан с которым неизбежно как проверка верности Спасителю. Этому посвящена последняя значительная работа «Три разговора» (1900), завершаемая «Повестью об антихристе», где Соловьев выразил свой окончательный взгляд на церковный вопрос и на ситуацию в мире. «Это – его покаяние», – резюмировал Мочульский (9, с. 209). Покаяние сочеталось с «Воскресными письмами», восполнившими эти диалоги.
Его творческие планы на ближайшее будущее были обширны – от теоретической философии и эстетики вплоть до разработки «библейской философии» или исторической философии в духе Библии. Обновление жизненного опыта, духовная переориентация и зрелость мысли располагали к серьезности результатов. Правда, юношеские видения неземной дамы он все еще считал важными. Но процесс очищения от былых прельщений и критического анализа мистического опыта продолжался и, возможно, завершился только в финале жизненного пути. 31 июля 1990 г. Соловьев скончался в доме кн. С. Трубецкого в Узком под Москвой. Перед смертью он исповедался и причастился у православного священника С.А. Беляева. Тот вспоминал впоследствии: «Исповедался Влад. Серг. с истинно христианским смирением (исповедь продолжалась не менее получаса) и, между прочим, сказал, что не был на исповеди уже года три, так как, исповедавшись в последний раз (в Москве или Петербурге – не помню), поспорил с духовником по догматическому вопросу (по какому именно, Влад. Серг. не сказал) и не был допущен им до Св. Причастия. ”Священник был прав, – прибавил Влад. Серг., – а поспорил я с ним единственно по горячности и гордости; после этого мы переписывались с ним по этому вопросу, но я не хотел уступить, хотя и хорошо сознавал свою неправоту; теперь я сознаю свое заблуждение и чистосердечно каюсь в нем”» (8, т. III, с. 216).
Его отпевали в университетской церкви. Похоронен в Москве рядом с отцом на территории Новодевичьего монастыря. В. Розанов увидел просветление облика Соловьева: «Заметно, как образ его улучшается, очищается после смерти; как и перед самой смертью он быстро становился лучше, как будто именно приуготовлялся к смерти. Разумеем здесь его отречение от горячки неподготовленных попыток к церковному “синтезу” и вообще быструю его национализацию. Внук деда-священника вдруг стал быстро скидывать с себя мантию философа, арлекиаду публициста. “Схиму, скорее схиму!” – как будто только не успел договорить он, по примеру старорусских людей, московских людей. И хорошо, что он умер около Москвы, москвичом. Там ему место – около сердца России» (10, с. 369–370).
Его друг кн. С. Трубецкой писал: «То была цельная и светлая жизнь, несмотря на все пережитые бури, жизнь подвижника, победившего темные, низшие силы, бившиеся в его груди. Нелегко далась она ему. ”Трудна работа Господня”, – говорил он на смертном одре. Но в этой трудной работе он не изнемог духом, сохранил чистое сердце и душевную бодрость, тот высший, чуждый уныния источник веселья и радости, в котором он сам видел подлинный признак и преимущество истинного христианства» (2, с. 299).