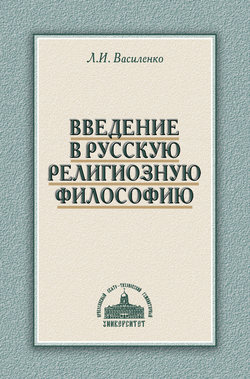Читать книгу Введение в русскую религиозную философию - Л. И. Василенко - Страница 9
Раздел I. Проблемно-тематическое самоопределение русской религиозно-философской мысли
Глава 2. Младшие славянофилы, почвенники и борьба с Западом
§ 3. Николай Данилевский об исторических циклах
ОглавлениеНиколай Яковлевич Данилевский (1822–1885) – философ истории, который решительно отверг светскую веру в прогресс: факты ее не подтверждают, а недолгие прогрессивные этапы развития бывают только на восходящих стадиях становления культур. В книге «Россия и Европа», известной как «катехизис славянофильства», Данилевский утверждал, что общечеловеческая культура не существует, а есть только появляющиеся и уходящие культурно-исторические типы. Они возникают на основе «великих лингвистико-этнографических семейств», они могут и должны обходиться друг без друга, не нуждаясь ни в каких заимствованиях, и созидают из себя все, что им нужно. Их 10: «1) Египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилонский, халдейский, или древнесемитический. 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский. 9) новосемитический, или аравийский, и 10) германо-романский, или европейский. К ним можно еще, пожалуй, причислить два американские типа: мексиканский и перуанский, погибшие насильственною смертью и не успевшие совершить своего развития. Только народы, составлявшие эти культурно-исторические типы, были положительными деятелями в истории человечества; каждый развивал самостоятельным путем начало, заключавшееся как в особенностях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые они были поставлены, и этим вносил вклад в общую сокровищницу» (9, с. 88).
Все они несовершенны, писал он, потому что каждая из них развивала какую-то одну сторону культуры. Например, «еврейская – сторону религиозную, греческая – собственно культурную, а римская – политическую» (9, с. 477). Германо-романская, т. е. европейская, развив науку и промышленность, показала себя более сложной, но выше всех он поставил славянский культурно-исторический тип, способный реализовать достоинства всех прочих. По тем задаткам, какие Данилевский видел в славянстве XIX в., славянский тип «представит синтезис всех сторон культурной деятельности в обширном значении этого слова, сторон, которые разрабатывались его предшественниками на историческом поприще в отдельности или в весьма неполном соединении. Мы можем надеяться, что славянский тип будет первым полным четырехосновным культурно-историческим типом»: в нем будет все – религиозность, культура, политика и экономика (9, с. 508). Если же он откажется от своей миссии, то потеряет историческое значение и послужит чуждым целям в качестве этнографического материала. Культуры появляются спонтанно сначала в виде локальных областей активной творчески-организующей работы, далее они раскрывают свои возможности, достигают зрелых развитых форм, а затем, исчерпав жизненный импульс, начинают слабеть, вырождаются и в конце концов исчезают. Этот цикл занимает 1000–1200 лет.
Европа как тип началась во дни Карла Великого, прошла свой путь, одряхлела и теперь распространяет повсюду продукты своего разложения, отравляет мир своими политическими, социальными, философскими идеями. Согласно Данилевскому, деградирующий Запад обманчив, потому что, предлагая что-то под видом общечеловеческого, в действительности навязывает свое и ущербное. Данилевский очень жестко судил нашу интеллигенцию за пересаживание сомнительных западных идей на русскую почву. Следует отталкивать то вредное, что идет из Европы, не делать чужое своим, не становиться на путь развития, ведущий к гибели. «…Для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, словака, болгара (желал бы прибавить и поляка), – после Бога и Его святой Церкви, – идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них недостижимо без ее осуществления – без духовно, народно и политически самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности» (9, с. 127).
Возражения Данилевскому были теоретическими, моральными и фактическими. К. Леонтьев удивлялся, что он не удостоил внимания Византию как особый тип, не верил, что славяне создадут новый тип, и ратовал за то, чтобы привлечь византийское религиозно-политическое наследие, чтобы оно определяло жизнь в России. Другое возражение: единого славянства давно не существует, а есть весьма разные славяне – русские, украинцы, белорусы, сербы, поляки и т. д. Разве они создадут единый тип? Вл. Соловьев писал, что найдутся люди, которые, почитав «Россию и Европу», рассудят так: никакой общечеловеческой культуры нет, сказал Данилевский, так пойдем дальше и спросим: а существует ли общеславянский тип? Заявим, что его нет, и будем ратовать каждый за становление только польского, или украинского, или русского типа. Принцип разделения будет дробить дальше, а это морально неприемлемо.
Священная история, описанная в Библии, история мировых религий, история Церкви этими циклами не определяются. Православие, писали многие, существует не только в славянстве, а охватывает другие народы. Невозможно его ограничить только славянским типом. Ислам наднационален, буддийский мир тоже невозможно уложить в один культурно-исторический тип. Мировые религии – не функции культур, цивилизаций или национальных организмов. Соловьев писал также, что Данилевский изобразил славянство всего лишь культурно-историческим типом, малодуховной естественно-исторической общностью. В таком случае Киреевского и Хомякова надо поставить выше Данилевского: они любили Россию прежде всего как носителя истинной веры. Достоевский был верен ранним славянофилам, когда говорил о «всечеловеческой и всеобъединяющей русской душе», способной в духе истинного вселенского православия отвечать на противоречия и проблемы Запада, на нервные искания тех, кого будоражит «европейская тоска». Флоровский в свою очередь напомнил, что национальная стихия должна пройти через глубокую и всестороннюю духовную проработку для преодоления «немощи националистической исключительности». Все естественное (в том числе национальное) должно претворяться верой, благодатью, духовным усилием.
Соловьев отверг все, что сказал Данилевский. Он не придал должного значения тому важному для Данилевского вопросу, который теперь формулируется особенно жестко: не превратится ли Россия в этнографический материал для чуждых ей целей? Данилевский выступил против общечеловеческой культуры как фикции. Соловьев, возражая, не думал в момент полемики о том, что ему стало ясно в конце жизни, – что мировая общечеловеческая цивилизация будет антихристианской. Данилевский тоже об этом не думал, но его почитатель и критик К. Леонтьев обратил на это внимание раньше Соловьева.
Культурно-исторические типы Данилевского живут как замкнутые биологические организмы, не нуждаясь в других культурах. Позже эту ошибку повторил на Западе О. Шпенглер, но ее миновал А. Тойнби. Когда культура описывается как жизнь таких «организмов», получается не история в собственном (духовном) смысле слова. Впрочем, «организмоподобные», «возрастные» и просто «деградационные» явления в истории народов и культур, конечно, найдутся, особенно когда люди забывают о Боге. Но роль таких явлений Данилевский и другие легко преувеличивали. Флоровский замечал, что у нас нередко «грехи Запада» объясняли его возрастом, а это упрощает вопрос и отводит взор исследователя от духовной трагичности путей Запада, на которых поиск и осуществление правды Божией искажались ложными выборами и духовными изменами.
Данилевского успешно критиковали, но его догадки о цикличности мировой истории, о большой дистанции между разными культурными мирами, об отсутствии общечеловеческого прогресса не отвергнуты в XX в. Действительно, «совершенно справедливо, что “общечеловеческой” культуры, как факта, не было, и не будет, и не может быть. Всякое культурно-историческое явление национально, т. е. несет на себе печать той “народной” среды, в которой оно возникло» (Флоровский, 6, с. 48). Западники это не понимали тогда и не понимают теперь. Нет и внутреннего единства западной культуры, поэтому обманчив образ Запада как «германо-романского» культурного типа, есть сосуществование и борьба разных действующих лиц на общем поле Европы и с выходами далеко за пределы этого поля.
История народов и культур – это прежде всего события, духовные выборы и поступки. В истории действуют воля и разум, любовь и ненависть, грехи и страсти человека и, что важнее, есть служение Господу и высший Промысел. Самое ценное в Российской истории лучше всего понимать по примеру ранних славянофилов и Достоевского как осуществление истинного православия, когда одни ему служили, а другие – противодействовали и разрушали результаты труда первых. Но было бы ошибкой пренебрегать тем, что совершалось также и за пределами борьбы за истинное православие, в нецерковных поисках истины, социальной правды и добра.
Сравним теперь Данилевского с Чаадаевым и другими философами, претендовавшими на раскрытие таинственной глубины мировой истории. Чаадаев считал, что есть прогресс в созидании мировой христианской цивилизации, с чем и связан смысл истории. Данилевский, напротив, думал, что в истории постоянно создаются культурно-исторические типы, так что смысл следует искать в том, какой именно восходящий тип реализуется в данную эпоху. Оба автора, каждый по-своему, попытались сделать историю понятной. Незадолго до того Гегель нарисовал свою прогрессистскую картину мировой истории, как если бы она была совершенно ясной разуму, без тайн. В России Соловьев, критик Данилевского, тоже предпринял нечто подобное (см. разделы 6.3 и 6.6).
В XX в. философы признали непомерными амбиции разума понять до конца тайну истории. П. Рикер, например, писал, что, будучи внутри потока исторических событий, научные исследователи не видят ни начала истории, ни ее завершения. Они ограничены возможностями времени и места. Так в любую эпоху. Чтобы увидеть историю как целое, в ее завершенности, нужно подняться над потоком истории, выйти «на уровень вечности», но это не дано исследователям-интеллектуалам. Если вера открывает нам смысл истории в целом, то это прекрасно, но она выводит искателя истины за пределы науки. Поэтому любая глобальная философско-историческая концепция, претендующая на то, чтобы научно или философски объяснить тайну истории, не может достичь того, что ей не дано.
* * *
В начале XX в. некоторые с симпатией вспомнили о культурно-исторических типах. Атмосфера Серебряного века побуждала думать о России как о месте, где созидается новый культурный тип. На этом сходство с Данилевским кончается. Создание нового типа, писали теперь, это творческая работа духа, а не органический процесс, это ответственная работа под знаком высших ценностей и святынь, подвиг мысли и веры. Творческие деятели этого периода заявили, что их дело – новое Возрождение, которое, как решили некоторые из них по примеру Ренессанса итальянского, а затем (в XVIII в.) немецкого, должно ориентироваться на вечную норму – эллинскую и эллинистическую культуру. Данилевский не думал, что Древняя Греция дала непреложные образцы культуры на все времена и для всех народов. Но его исправляли: «Славянское Возрождение» должно питаться, как всякий вариант Ренессанса, из греческих источников (Ф. Зелинский и др.)
Вопреки этому Вяч. Иванов в своей яркой статье «Живое предание» признал главным критерием истинного славянофильства веру в Святую Русь: «Что сокровенный лик Руси – святой, это есть вера славянофилов, и в этой вере нет национального надмения. Она не исключает чужих святынь, не отрицает иных святых ликов и народных ангелов в многосвещнике всемирной церкви, в соборности вселенского богочеловеческого тела… С другой стороны, вера в святыню умопостигаемого лика предрешает жертвенную готовность отвергнуться ради него от всех земных, изменчивых и тленных обличий и личин; ибо только святая Русь – подлинная Русь, Русь же не святая – и не Русь истинная» (13, с. 347–48). Славянофильство начала XX в., писал он, преодолело соблазн национализма, которому поддавался Данилевский, и соблазн оправдывать существующую власть, и утвердилось на «верности церковной правде» (с. 349).
Сказано хорошо, но все же сам Вяч. Иванов не был последовательно верен православной истине. Для него был важен дионисический эллинизм. Где сильна ориентация на эллинизм в любом его дохристианском виде, там велик риск ухода от православия. Мысль Вяч. Иванова раздвоилась между влечением к эллинизму и к святыне православия. Прельщало и величие Рима. И он ушел в католичество. Некоторые, впрочем, отмечали, что полного ухода не было, т. к. формулу отречения от православия он в Риме не произносил, по примеру Соловьева и с позволения папы. Заметим, что А.Ф. Лосев в «Очерках античного символизма и мифологии» (1928) рассуждал об эллинском язычестве, византийско-московском православии, католичестве и протестантстве как о разных культурных типах. Из этого следует, по его оценке, невозможность какого-либо их сближения.
В XX в. «евразиец» Н.С. Трубецкой выступил с притязанием на роль наследника дела Данилевского. Он отверг «эгоцентрическую Европу» и «общечеловеческие начала» ради расовой и национальной традиции, ради «туранского духа» и славянских «исконных начал». Иногда высокопарно говорят теперь: «Ради торжества органических порождений славянского национального гения». «Нужно идти по своему пути не оттого, что он благословлен Свыше, а оттого, что на него толкает сила исторического рока», – так оценил это Флоровский (6, с. 46). А как далеко заведет роковая сила, догадаться нетрудно. Н.С. Трубецкой от православия не отрекался. Но к концу XX в. появились новые ревнители «исконности», которые требуют возврата к древним славянским и неславянским языческим «началам». Данилевский, разумеется, к этому не звал.
На поиски нового Возрождения и евразийской альтернативы Флоровский ответил просто: не евразийский, тюркский или славянский имперский дух и не дохристианский эллинизм, а христианский, т. е. святоотеческий эллинизм, должен обрести у нас новую жизнь. Его следует считать той нормой нашей православной христианской культуры, на которую следует ориентироваться, чтобы решать проблемы современной культуры.