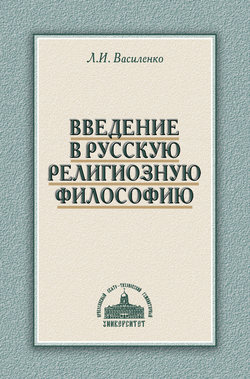Читать книгу Введение в русскую религиозную философию - Л. И. Василенко - Страница 8
Раздел I. Проблемно-тематическое самоопределение русской религиозно-философской мысли
Глава 2. Младшие славянофилы, почвенники и борьба с Западом
§ 2. Юрий Самарин о личности в общине
ОглавлениеЮрий Федорович Самарин (18191903), «неисправимый славянофил» по собственной самооценке, родился в богатой дворянской семье. В 30-е годы вошел в философский кружок Станкевича, где весьма увлекались Гегелем. Последний, однако, не уважал славян. Самарин и Константин Аксаков решили, что Гегеля нужно исправить верой в великое будущее России. В начале 40-х годов Самарин думал с помощью Гегеля выразить православие как своего рода духовную науку, впал в духовный кризис, от которого его избавил Хомяков, вернув к «цельности религиозного сознания». Самарин принял, что эта цельность достигается, если разум развертывает свою деятельность в русле веры. В конце 40-х годов Самарин увидел связь Гегеля с европейским коммунизмом и полностью отверг их.
В 1844 г. Самарин успешно защитил магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович». В 1853-56 гг. он подготовил записку «О крепостном состоянии и о переходе из ничего к гражданской свободе», где предлагал освобождать крестьян вместе с землей. Необходимо, считал он, сохраняя помещичье землевладение, поддерживать и защищать общинную собственность на землю и сами общины, чтобы не было пролетаризации крестьян (революционные мятежи 1848 г. в Европе нельзя было игнорировать). В 1861 г. он стал известен как консервативный «человек реформы»: самодержавие, настаивал он, не следует превращать в конституционную монархию. В 1865 г. пишет книгу «Иезуиты в России», продолжившую его антикатолическую полемику в диссертации. После смерти друзья подготовили 12-томник собрания его сочинений, но полностью они так и не были изданы.
Основные идеи диссертации. Православие Самарин понимал как единую и единственную Церковь Христову, в которой сохранена «полнота неповрежденного откровения». Католичество считал латинским отражением христианства и отпадением от Церкви, оно превратило Церковь в государство, ложную форму единства Церкви. Протестантство отвергло ложное начало и вместе с ним церковность как таковую. В результате восторжествовала разобщенность во имя личностного духовного искания.
Яворский и Прокопович явили в России два отклонения от истины православия – в католическом и протестантском духе. Церковь тем не менее не осудила ни того, ни другого. Причиной считали отсутствие собственного православного понимания, выраженного в виде продуманной богословской системы. Самарин возражал, что православие и не должно было создавать подобную систему, чтобы не впасть в рационализм, характерный для католиков и протестантов. Православие – это живая вера, внутреннее единство благодатной жизни церковной общины, где каждая личность – сосуд благодати, одушевляющей целое. В этом, считал Самарин, его превосходство над западными исповеданиями, где создают системы, но теряют жизнь в Духе и Истине.
Лучше ли сказал Самарин о православии, чем Хомяков? Многие замечали, что Самарин был намного основательнее в критике западных исповеданий, чем в выражении истины самого православия.
Чаадаев возражал: католичество – не государство, а «царство, все прочие царства в себе заключающее». Ответ не из убедительных. И, вопреки Ю. Самарину, русское православие нуждалось в том, чтобы найти пути и средства выразить свою истину, и сделало оно это, разумеется, не по католическим или протестантским схемам, а на основе святоотеческого наследия.
Община и личность. Западник К. Кавелин заявил тогда, что личность – это «мерило всего», это высокое самосознание, сознание собственного достоинства, сосредоточенность в себе, внутренняя дистанция по отношению к другим личностям и сообществам: она не принадлежит ни роду, ни нации, ни государству. Личность осознает себя таковой при распаде родовых форм жизни и сознания. Этому особенно содействует, утверждал Кавелин, христианство, которое принесло в мир понимание достоинства личности. Особенно сильно самосознание личности развилось у германцев, а вот славянам, с его точки зрения, надо преодолевать привычную склонность погружаться в дохристианскую, но сохранившуюся в православии, безличную коллективность, в семейно-родовые отношения, растворяться в них и духовно засыпать. Короче, делал вывод Самарин, русскому надо стать немцем, чтобы стать человеком.
Самарин возражал, опираясь в первую очередь на исторические факты: на Руси были иные яркие выразители личностного достоинства – благоверные князья, богатыри и монахи-подвижники. Разве эти люди противопоставляли себя общинам, Церкви и народу? Говоря по-современному, их личностное достоинство – качественно другое, если сравнивать с «германской» личностью, как ее подал Кавелин, которая вовсе не универсальна, а сформирована в русле протестантских и романтических влияний. Отличие выразилось, в частности, в том, что «личность не играла у нас той первостепенной роли, не выкидывала так смело своего знамени, как на Западе» (3, с.505). «Неужели в самом деле германцы исчерпали все содержание христианства?» – спрашивает Самарин (3, с. 419).
Во-первых, утверждал он, акцент на самоопределении личности без характеристики содержания ее внутренней жизни не дает полнокровного христианского понимания личности. Во-вторых, общину не следует считать тем безличным родовым социальным единством, где личность теряется. Наоборот, именно в общине личность достигает духовной зрелости, ответственно в ней участвует, принимает ее во имя Высшего. Это – свободный акт, духовное решение. Здесь первично послушание Богу и Церкви. В славянском мире, возражал он Кавелину и другим, община приняла в себя духовное начало от Церкви, народное общинное начало просвещается Церковью: «Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия» (3, с. 443). А государство (разумеется, самодержавное) является для народа формой, не противоречащей общинному началу.
Самоотречение принципиально важно потому, что понимание личности как обособленной от общины, согласно Самарину, неконструктивно. В наше время это обособление обычно оценивают как индивидуалистическое самоутверждение, которое в светской культуре считается преодолеваемым на путях развития личностного самосознания. Самарин, однако, понимал, что этого недостаточно: для более полного и глубокого понимания личности нужно вводить в рассмотрение те сверхличные ценности и святыни, которые придают смысл жизни личности, когда она вступает в живые отношения с Богом. Реальность ценностей, святынь и отношений открывается в религиозном опыте личности. Это есть у Самарина, как, впрочем, есть и в современном персонализме, где личность понимается как преодолевшая замыкание на себя и принимающая ценности высшего порядка, а также нормы жизни, которые предлагает Бог.
Самарин прав в том, что подлинное понимание личности дается верой, а не разъяснением с помощью каких-то социально-исторических фактов, будь то «германский» образец или что-то еще. Вспомним для сравнения, что у Киреевского идеал «цельности жизни» означал, что православный христианин, будучи «разумно-свободной личностью», является частицей Церкви как Тела Христова и живет полнокровной жизнью Церкви в единстве с Богом. Самарин высказывался о церковном статусе личности в общине скорее в русле долженствования, чем реального наличия. Если общинность лишена добротного церковного качества, тогда не может быть глубокого внутреннего единства всецело преданной Богу личности с подобной общиной. Самарин не закрывал глаза на то, что беда многих из нас в том, что в Церкви «мы числимся, но не живем». Это означает, что когда духовная жизнь общины теплохладна, появляются серьезные проблемы взаимоотношений личности с этой общиной, решения которых не исчерпываются тем, что Самарин описал в общем виде.
* * *
Ранних славянофилов сменили почвенники. Они не искали идеальную соборную жизнь в Древней Руси, а хотели опереться «на почву», на духовную жизнь и силу народа. Прот. Василий Зеньковский писал, что суть их представлений состоит в том, что народ в его историческом развитии в современном состоянии, в полноте его реальных сил и духовных запросов есть «почва», вне которой немыслимо продуктивное творчество. К этому же относится, продолжал он, идея всечеловеческого синтеза как задачи, стоящей перед Россией. Приведем характерные строки из объявления о выходе в свет органа почвенников – «Времени» (написаны Ф.М. Достоевским): «Мы знаем теперь, что не можем быть европейцами…, мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе новую форму – нашу собственную, родную, из почвы нашей взятую; мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, что характер нашей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея может быть синтезом всех тех идей, которые с таким мужеством развивает Европа» (4, c. 88). Но далеко не все почвенники были в своей мысли на уровне заданий, сформулированных Достоевским. «Почвенником» он был довольно странным – все его творчество, особенно «Бесы», свидетельствует, что «почва» как бы «заминирована» жуткими разрушительными страстями, способными погубить Россию.
Аполлон Григорьев (1822–1864) считал прежних славянофилов слишком теоретичными. Его привлекла эстетика православия – яркие характеры отцов, дедов и прадедов, их красота, сила и жизненность, а также и вера, которая веками формировала могучий народ. Григорьев, как и Достоевский, призывал твердо опереться на народную почву – глубинную основу народной жизни. Главное в ней – православие. Отрыв от него стал пагубным для образованного русского общества. Григорьев не был ярым антизападником и понимал, что быть православным – не значит враждовать с европейской культурой. Но он, как и многие тогда, остро чувствовал, что западная культура ослабела и надломилась. В отличие от Достоевского и ранних славянофилов, он воспринимал православие эстетически и романтически, как прекрасную веру большого и сильного народа, а не как свидетельство высшей спасающей Истины, живущей в Церкви.
Известным почвенником был Николай Николаевич Страхов (1828–1896), враг западного «просвещенства», атеистического разума и безбожной цивилизации. Страхов – автор работы «Борьба с Западом в нашей литературе» (в 2-х кн. СПб., 1887–1890), а также «Из истории литературного нигилизма. 1861–1865» (СПб., 1890). Он настаивал, что возврат к почве избавит от «просвещенства», «безумия рационализма», суррогатов религии и безбожия, которые идут в Россию с Запада. «Просвещенство» не только не способно ничего предложить для подлинного просвещения разума и сердца, но и враждебно ему. «Проект Просвещения», как теперь его называют, должен быть полностью отвергнут.
Мы призваны, продолжал он, увидев отвратительные плоды этого «проекта», разобраться с духовными основами западной культуры. Грядут великие бедствия за все наши ложные увлечения и исторические грехи. Может быть, нам суждено явить миру яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения. Но мы же должны дать самую сильную реакцию этому духу. Об этом же писали Данилевский, Самарин и др. Во всем этом немало идеологического неприятия, мотивированного сильной страстью. Не хватает вдумчивого отношения к трагедии европейской культуры на путях рискованных выборов, которые совершили деятели Просвещения, не хватает и объективности в том отношении, что среди этих деятелей были те, кто дорожил истиной и социальной справедливостью. Но верно, что непомерная амбициозность и антицерковность многих из этих деятелей не могли не привести западную культуры к тяжелым результатам.