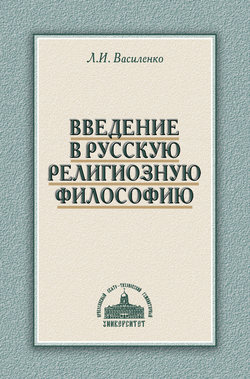Читать книгу Введение в русскую религиозную философию - Л. И. Василенко - Страница 6
Раздел I. Проблемно-тематическое самоопределение русской религиозно-философской мысли
Глава 1. Западники и славянофилы: спор о России
§ 4. Алексей Хомяков о соборности и истине
ОглавлениеДругим основателем славянофильства стал Алексей Степанович Хомяков (1804–1860). Его называли православно цельным человеком, «рыцарем Пресвятой Богородицы», «рыцарем Церкви». Душа его и мысль были созвучны всему лучшему в православии. Его постоянно переиздаваемая работа «Церковь одна» ясна, цельна, кратка. Его уважали Герцен и Бердяев. Хомяков не был профессиональным богословом, его богословские рассуждения тесно сплетаются с философскими оценками и аргументами, поэтому его относят к философам.
В России тогда насаждалась официальная формула министра народного просвещения графа С.С. Уварова: «Православие, самодержавие, народность». (Уваров вместе со Сперанским прошел через элитарную масонскую ложу Фесслера). Ее, с одной стороны, использовали для идеологического оформления неканонической синодальной системы, а с другой – она устраивала защитников крепостного строя. Понятно, что эту формулу можно и нужно было истолковать в лучшем смысле, но Хомяков воспринял ее как еще один вызов подлинному православию (внутрироссийский вызов помимо западного) и обратился к тому, чтобы найти ответ в истоках русского православия. А именно, в том, что наша Церковь – Единая, Святая, Соборная и Апостольская, она сохранила свое подлинное преемство с истинным православием древности, в Церкви главное – истина и свобода во Христе.
Хомяков понимал свободу не индивидуалистически – не как свободу от внешних ограничений или как условие личной независимости, как свободу выбора, самоутверждения и самореализации. Такое понимание свободы задали Ренессанс и Новое время, оно – результат размывания христианской культуры. Отрицать, что есть свобода выбора, было бы бессмысленно, но Хомяков подчеркивал, что главная свобода человека – это свобода в истине, в смысле слов Христовых: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32) и слов ап. Павла: «К свободе призваны вы, братья» (Гал. 5:13). Свобода во Христе – истинная свобода, а нецерковный человек в главном просто не свободен. Свобода во Христе и истина – главные признаки соборности.
Хомяков защищал это вопреки оппонентам, боявшимся самого слова «свобода» из-за связанных с ним левых ассоциаций. Не отдавать свободу левым – таков смысл его полемики. Сама Церковь стала для него великим субъектом свободы; вне Церкви настоящей свободы не существует. Свобода достигается в Церкви в результате духовной работы, подвига. Здесь усилие человека сочетается с даром свыше, здесь особое благословение Божие тому, кто трудится в Церкви в духе любви, смирения и молитвы. Хомякова не интересовала свобода без серьезных усилий и обязательств, потому что она остается всего лишь свободой нескончаемых метаний вне истины.
Жизнь в Церкви – главное. Каждый христианин должен стать живым членом Церкви – тогда он обретет подлинную свободу, истинное познание и безупречную нравственность. Именно в Церкви есть истина, вне Церкви истинная философия невозможна. Хомяков, в чем-то повторяя Киреевского, добавляет: соборное сознание Церкви вводит в истину, дает свободу в истине; соборное сознание – это приобщение ко Христу. Дух Божий действует в соборном единении, истина открывается соборному сознанию в целом, а не рациональному уму отдельного человека. Вера разумного человека, глубоко укорененного в соборном сознании, получает прямой доступ к реальности, безошибочно ведет разум по пути к истине.
Вера, таким образом, – источник даваемых разуму истинных знаний. Такое понимание единства веры и разума ориентирует на то, что вера ведет разум по пути осмысления содержания откровения, т. е. на решение богословских задач. Если выходить за пределы этих задач и продолжать по-хомяковски говорить, что вера ведет разум к прямому постижению глубин реальности, то, как сказал бы религиозно чуткий гносеолог, нужно либо признать, что есть откровения свыше, относящиеся к сотворенному Богом миру, либо принять поправку, что речь должна идти уже не о вере, а об интуиции, которая дает прозрения тех реальностей, относительно которых нет откровений свыше. Неполнота таких прозрений, неизбежность субъективности их интерпретации, скажет такой гносеолог, не позволяют сохранять в силе тезис, что так понимаемая вера не даст разуму ошибиться.
Во времена Хомякова веру и интуицию еще четко не различали. Но он возразил бы такому (отнюдь не плохому!) гносеологу, что он остался в стороне от соборного сознания Церкви, что он рассматривает веру и разум индивидуально, вне соборного сознания, как если бы философ, будучи в Церкви, верил и мыслил соборно, а переходя к профессиональной работе, стал бы верить и мыслить индивидуально, нецерковно. Подлинная вера соборна: прежде всего Церковь – субъект веры, а отдельно взятый верующий верует не индивидуально, а соборно со всей Церковью, войдя в ее таинственную жизнь. Соответственно, меняется и мышление человека: когда оно преображается в духе такой веры, то меняются духовные основы мышления, приобретая соборное качество. Гносеолог сказал бы в ответ, что он хотел бы получить четкий и конкретный «соборный» критерий оценки истинности идей, концепций, теорий.
На этом спор гносеолога и А.Хомякова, вероятно, и оборвался бы. Следует все же признать правоту Хомякова в том, что для того, чтобы мышление человека развертывалось в русле истины, действительно необходимо, чтобы человек экзистенциально определился в мире должным образом. Нужно, чтобы его позиция в жизни была духовно верна и эта верность практически утверждалась постоянно. Соборное сознание Церкви задает, согласно Хомякову, верность экзистенциальной позиции, тогда как сектантское сознание каких-то конфликтующих групп, пусть даже они и считают себя христианскими, или антицерковная амбициозность групп и лидеров постхристианской культуры – нет.
Вернемся, однако, к самой соборности. Для Хомякова это дар Духа Святого. Соборность создается самой Истиной и не существует вне или без Истины. И когда слово «соборность» говорят политики, имея в виду прекрасное единомыслие или единодушие, это обманчивые речи, потому что соборность – явление не политическое и не социально-психологическое. Хомяков следовал древнему пониманию соборности как «кафоличности» – это и вселенскость, и полнота раскрытия даров Св. Духа, чистота и догматическая определенность веры, верность Преданию, послушание Церкви.
Вопреки оппонентам, утверждавшим, что Церковь духовно охладела, что не видно благодати, что христиане ничем не отличаются от нехристиан, Хомяков призвал не изменять вере, поскольку Церковь и поныне обладает всей полнотой даров Св. Духа. Если у каких-то православных эти дары не раскрываются, то только из-за отсутствия духовной работы и слабости веры в силу Христову. В жизни Церкви все есть, все дано, хотя и не все реализуется по нашему небрежению. Но все раскроется, если люди действительно захотят с полной самоотдачей работать ради Бога и ближнего.
Обратим внимание на критику Хомяковым западной идеи авторитета Церкви. Авторитет – от лат. auctoritas – власть. Идею авторитета Хомяков считал ложной, искажающей христианство. «Церковь – авторитет, – сказал Гизо в одном из замечательнейших своих сочинений; а один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их; при этом ни тот, ни другой не подозревают, сколько в них неправды и богохульства. Бедный римлянин! Бедный протестант! Нет: Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его…» (8, т. II, с. 43–44).
Яркие слова Хомякова «не авторитет Христос» можно простить как преувеличение в полемике, но невозможно согласовать с древним исповеданием «Иисус Христос есть Господь», вошедшим в наш Символ веры, а также и с евангельским свидетельством: «Слово Его было со властью» (Лк. 4:32,36) и «дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Послушание Его власти – это, разумеется, послушание в духе любви, с чем согласится и Хомяков.
Хомяков полемически защищал свободу как от ее неправильного осуществления в протестантстве, так и от принуждающего авторитета в католичестве. В общем виде это так. Но защита не во всем убедительна. Православие – не только свобода от авторитета в мирском или католическом смысле, но и догматическая чистота вероучения, канонический строй, жизнь в таинствах, иерархичность Церкви. Внутреннее духовное единство Церкви сочетается с внешним каноническим единством.
Прот. Иоанн Мейендорф писал, что Церковь – реальность более глубокая, чем авторитет, она – источник всякого авторитета в Церкви. «В Церкви авторитет не подавляет и не ограничивает свободы; он, скорее, призывает к ней, утверждая верность Бога Его Новому Завету с человеком… Христианское понятие авторитета исключает слепое подчинение и предполагает свободное и ответственное участие всех в общей жизни Тела Христова» (19, с. 59). В отношении православия нужно говорить о «внутреннем авторитете» Церкви, который чутко воспринимается сердцем верующего человека, а не о том «внешнем авторитете», который был предметом критики Хомякова.
Идея авторитета утвердилась в VIII–XI веках как реакция католической иерархии на разделение путей веры и культуры. Киреевский отнес это к XI в. Неотомист Э. Жильсон связал с временами Карла Великого. Будем считать, что Жильсону виднее, когда именно. Реакцией на расхождение путей веры и культуры стала католическая идея, что иерархия авторитетна в вопросах веры и морали по отношению ко всему верующему народу. Идея авторитета «работала» на сохранение внешнего единства католического мира лет 500 – до Возрождения, когда расщепление пошло дальше и необратимо.
С точки зрения Хомякова, требование подчиняться авторитету – признак ослабления веры, потери ее полноты, попытка скомпенсировать последствия потери. Но ошибочно думать, что авторитет – это всегда плохо. Даже Бердяев знал, что «гениальность авторитета» существует. Хомяков в пылу полемики фактически отождествил суть авторитета с его старым католическим пониманием и приравнял авторитет к авторитаризму – идолопоклонству перед авторитетом.
Хомяков критиковал католичество как авторитет без свободы, а протестантизм – как свободу без авторитета. Полемическая простота таких оценок нуждается в поправках. В католичестве XIX в. были те, кто помнил о соборных началах. О. Георгий Флоровский писал, что Хомяков, вероятно, читал немецкого католического богослова И. Мёлера, который ратовал за «истинную католичность» «во имя духовного возврата к святоотеческой полноте» (2, с. 279). Хомяков упрощал дело, заявляя, что на Западе забыли о соборности, но в главном он прав: нужна подлинная свобода во Христе, внутреннее послушание Церкви, а не авторитарной иерархии.
«Христианство есть не что иное, как свобода во Христе. Я признаю Церковь более свободную, чем протестанты, ибо протестанты признают в Св. Писании авторитет непогрешимый и в то же время внешний человеку, тогда как Церковь в Писании признает свое собственное свидетельство и смотрит на него как на внутренний факт своей собственной жизни. Итак, крайне несправедливо думать, что Церковь требует принужденного единства или принужденного послушания. Напротив, она гнушается того и другого, ибо в делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть». И еще: «Так неужели реформаты по праву считают себя представителями начала свободы? Нисколько. Говорить, что каждый человек должен быть свободен в своем веровании, – это еще не все; в этом еще не определяется отличие свободы христианской от любой другой… Единство внешнее, отвергающее свободу и потому недействительное, – таков романизм. Свобода внешняя, не дающая единства, а потому также недействительная, – такова Реформация. Тайна же единства Христа с Его избранными, единства, осуществленного Его человеческою свободою, открыта в Церкви действительному единству и действительной свободе верных» (8, т. II, c. 183).
Православный просто не найдет в протестантстве ничего такого, чего бы он не имел в лучшем виде в своей Церкви. Поэтому «Хомяков мог утверждать, что православный христианин обладает полной индивидуальной свободой и религиозной искренностью, подобной той, что есть в протестантизме, и вдобавок еще живым единством Церкви» (С. Франк, 10, с. 180). Хомяков понимал, что торжество религиозного индивидуализма в протестантской среде означало слабость по отношению к духу мира сего. Если человек по-настоящему церковен, то он духовно силен (не своей силой). Если же человек эгоцентрик, он духовно слабее человека церковного, но действует последовательнее и решительнее еще более слабого религиозного индивидуалиста, потому что последний внутренне раздвоен: он пытается быть религиозным, оставаясь индивидуалистом. Это жалкое состояние: ни истины, ни благодати, ни соборности, ни свободы, ни силы духа.
Замечено верно. И все же нет полной убедительности в приравнивании к индивидуалистической свободе протестантского стремления освободиться от авторитета Рима. Лучшее в протестантстве – призыв максимально ответственно принимать веления Слова Божия. Если честно этому следовать, то индивидуалистическое своеволие надо отложить. Другое дело, что ряд протестантских теологов XIX в. были совсем не на высоте этого призыва. Они и дали Хомякову поводы для упреков в индивидуализме. (Не будем исключать также и то, что полемист Хомяков мог иметь в виду не только далеких протестантов, а и духовно дряблых лиц рядом). В XX в. мы найдем других протестантов. Например, в XIX в. оппонент Гегеля С. Кьеркегор напомнил о страхе Божьем, а в XX в. П. Тиллих писал о мужестве веры вопреки силам небытия, недавно скончавшийся П. Рикер – о пророческом духе христианской веры вопреки всякой фальшивой религиозности, а погибший в фашистском концлагере Д. Бонхёффер – о внутреннем послушании сердца Богу. Впрочем, этот вопрос требует особого рассмотрения. Пример такового мы видим в работах архим. Августина (Никитина), который нашел у Хомякова свидетельства того, что он относился к лучшим протестантам всерьез (13).
Вопрос, была ли в истории России соборность и «цельность жизни» как состоявшийся факт, ранние славянофилы решали по примеру Киреевского: была в период Московской Руси. Такая идеализация характерна для всех славянофилов, хотя, впрочем, Хомяков был в этом отношении наиболее сдержанным. Исторически она не подтверждается. Всякий, кто знает историю хотя бы в период от Ивана III до Василия III и Ивана IV, вспомнит, сколь тяжелым было это время для Церкви. Историческая наука опровергает фактами мнение, будто подлинная соборность имелась в общенациональной жизни Московской Руси. Историю надо уважать. Но она вовсе не опровергает собственного содержания соборности. Оно задается духовной традицией Церкви, а не тем, реализовалось оно или нет в толще народной жизни какого-либо исторического периода.
Идеализации нередко ведут к фальсификации. С. Франк писал о «фальшивой религиозной восторженности» в таких идеализациях, губительных для истины: «Славянофильство есть в этом смысле органическое и, по-видимому, неизлечимое заболевание русского духа (особенно усилившееся в эмиграции)» (17, с. 99). Но не будем спешить раздавать диагнозы. Хомяков сам боролся с духом националистической гордыни и не возносил величие нации выше православия. «Не верь, не слушай, не гордись!» – отрезвлял он многих, видя это искушение. Все же Россию он поставил выше Византии: Византия не выполнила историческую задачу построения общественной жизни на христианских началах, а Россия еще сможет это сделать. Надежда пока не оправдалась.
Не эти идеализации являются главным в славянофильстве. Лучше обратить внимание на духовно здоровое понимание ранними славянофилами того, какой должна быть подлинная христианская община, и на их убеждение, что она осуществима на земле по милости Божией. Сказанное Франком не обесценивает того, что Хомяков связывал именно с Россией историческую миссию хранить истинное православие, свидетельствовать миру его чистоту и истину. А также то, что возврат к духовным корням русской православной традиции он считал тем истоком духовного обновления России, в русле которого реализуется достойный ответ на вызов Запада.
Дух мысли Хомякова можно ассоциировать с традицией преп. Нила Сорского – с большим основанием, чем преп. Иосифа Волоцкого. Сказанное не означает принижения дела преп. Иосифа, а только констатацию того, какой идеал святости ближе. Хомяков и другие славянофилы ценны не своими полемическими крайностями, а тем, что защищали соборные основы православия: нельзя быть Церковью наполовину, нельзя быть христианином наполовину, нужно осуществить подлинную христианскую жизнь во всей ее полноте.
* * *
В истории России западники превозмогли влияние славянофилов. С 40-х гг. XIX в. в основном они определяли атмосферу в социально-политической и культурной жизни. Русская историческая наука, одно время выполнявшая задание славянофилов, затем отошла в сторону. Спустя столетие Г. Федотов, пройдя через западнический соблазн, другими глазами посмотрел на эту давнюю полемику и увидел в ней тяжбу между Москвой и Петербургом, в чем-то ушедшую в прошлое, а в чем-то сохранившую свое значение и поныне: «Еще недавно мы верили, что Россия страшно бедна культурно, какое-то дикое, девственное поле. Нужно было, чтобы Толстой и Достоевский сделались учителями человечества, чтобы алчные до экзотических впечатлений пилигримы потянулись с запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия – не нищая, а насыщенная тысячелетней культурой страна – предстала взорам. Если бы сейчас она погибла безвозвратно, она уже врезала свой след в историю мира – великая среди великих – не обещание, а зрелый плод» (20, c. 34).
Философско-антропологический замысел И. Киреевского и духовная жажда подлинной соборности у Хомякова не были забыты русскими религиозными философами, поскольку открыли новые пути самостоятельного развития мысли в России. О полемике вокруг наследия ранних славянофилов см. Приложение 1.
Вопросы:
1. Чем соборность отличается от коллективности и организации?
2. Сравните различные варианты понимания проблемы места России в отношении Запада и Востока у Чаадаева и ранних славянофилов.
3. Каковы основные черты соборности в понимании Хомякова? Достаточно ли полно выразил он православное понимание соборности?
4. Почему мы относим Хомякова к православным философам, а не к богословам?
5. Что может и что не может постичь «верующее мышление» в понимании Киреевского?
6. Что значит стать разумно-свободной личностью в смысле Киреевского? Какую духовную работу нужно для этого проделать над собой?
7. В чем состоит чрезмерность идеализации московского периода русской истории ранними славянофилами?
Литература:
1. Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989.
2. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1983.
3. Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998.
4. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997.
5. Киреевский И.В. Разум на пути к истине. М., 2002.
6. Гершензон М.О. Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого. М., 1989.
7. Вейль С. Укоренение. Письмо клирику. Киев, 2000.
8. Хомяков А.С. Сочинения в 2-х тт. М., 1994.
9. Концевич И.М. Оптина Пустынь и ее время. Серг. Посад; Владимир, 1995.
10. Смолич И. И. В. Киреевский (К 125-летию со дня рождения) // Путь. Париж. 1932. № 33.
11. Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. М., 1996, гл. XI–XII.
12. Зернов Н. Английский богослов России Императора Николая Первого (Вильям Пальмер и Алексей Степанович Хомяков) // Путь. 1938. № 57.
13. Августин (Никитин), архим. Русские славянофилы и немецкое лютеранство // Начало (СПб.). 1997. № 5.
14. Арсеньев Н.С. Учение Киреевского о познании истины // Арсеньев Н.С. Дары и встречи жизненного пути. Frankfurt/Main, 1974.
17. Франк С. Русское мировоззрение. СПб., 1996.
18. Хоружий С.С. Алексей Хомяков: учение о соборности и Церкви // Богословские труды. Вып. 37. М., 2002.
19. Мейендорф И., прот. Православие в современном мире. М., 1997.
20. Федотов Г.П. Лицо России. Париж, 1988.
21. П.Я. Чаадаев: pro et contra. СПб., 1998.