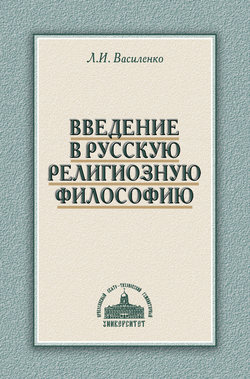Читать книгу Введение в русскую религиозную философию - Л. И. Василенко - Страница 17
Раздел II. Вокруг метафизики Всеединства Владимира Соловьева
Глава 6. Владимир Соловьев
§ 2. Богочеловечество и византизм
ОглавлениеСоловьев исходит из того, что Христос – Возглавитель всей твари, Глава Церкви и образец жизни по Евангелию, жизни с полной самоотдачей в служении Богу и ближнему. Богочеловечества нет и не может быть без Богочеловека – воплотившегося Слова. Оно охватывает всех, кто собирается вокруг Христа и Евангелия, кто откликается на Божий призыв войти в Его Церковь и послужить высшей правде. «Тайна вселенной, ее смысл и разум есть Богочеловечество, т. е. совершенное соединение Божества с человеком, а через него и со всей тварью» (1, т. I, с. 320).
Догматическую истину о Воплощении Сына Соловьев поставил в центр своей философии. Это не превратило ее в богословие, потому что богослов ответственно берет на себя догматические обязательства перед Церковью и принимает весь объем Откровения и церковного вероучения, а Соловьев ограничился только его частью и привлек немало постороннего. Ориентируясь на образованное российское общество, Соловьев обращался к нему на свободном религиозно-философском языке как вселенски мыслящий христианин.
В главном Соловьев прав: в средоточии мировой истории действует Богочеловек Христос. Это – вера древней Церкви, о которой нужно было напомнить в сумрачном XIX в. Верность Богочеловеку стала нелегким жизненным крестом В. Соловьева. Она требовала от него приносить в жертву ради Истины личные философские пристрастия и понятное желание ставить на первое место ту боль, которую вызывали в его душе трудности воцерковления в православии. Боль своего сердца, сохранявшуюся все годы его творческой работы, он однажды выразил так: «Современная религия есть вещь очень жалкая, – собственно говоря, религии, как господствующего начала, как центра духовного тяготения, нет совсем, а есть вместо этого так называемая религиозность, как личное настроение, личный вкус…» (6, т. III, c. 4). Так он характеризовал хорошо знакомое ему по личному опыту благочестие той части образованного общества и аристократической элиты, которая еще считала себя православной. Но распространял это также на народное благочестие и на монашеский аскетизм. Монахов безжалостно критиковал за отрешенность от мирского и за уклонение от социально активного служения.
Соловьев призвал «сотворить из догмата Христианского твердое, но широкое основание, неприкосновенное, но живое начало всякой философии и всякой науки» (6, т. XI, c. 341). Соловьев не принимал традиционного для Запада разделения теологии и философии и попытался соединить в своем «цельном знании» выбранные им богословские истины с метафизикой и наукой. Он жаждал духовного обновления церквей и считал, что их практическая жизнь далека от Богочеловеческого идеала, – во всех он находил признаки духовного угасания, уклонения или подмен. Следовать богочеловеческому идеалу означало, согласно Соловьеву, чтобы церкви брали на себя исполнение самых серьезных социальных задач в политике, культуре, морали и образовании, означало наступательную стратегию христианства в отношении духа мира сего. Видя, что это не осуществляется, он судил сурово и не как сын своей Матери-Церкви.
Богочеловеческий идеал означает в его интерпретации, что Совершенный Бог, соединяясь с совершенным человеком, дает человеку такие творческие возможности, какие он не может иметь без Христа, без веры, без Церкви. Если творческие силы человека будут подняты на новый уровень, тогда непосильные для «теплохладных» христиан социальные задачи станут исполнимыми. Соловьев жаждал полноты развития человеческого начала в Церкви и призывал трудиться максимально энергично. Православный Восток, писал он в «Чтениях», имея в виду прежде всего Византию и Россию, «сохранил истину Христову; но, храня ее в душе своих народов, Восточная Церковь не осуществила ее во внешней действительности, не дала ей реального выражения, не создала христианской культуры, как Запад создал культуру антихристианскую» (6, т. III, c. 178).
Соловьев высказал много суровой критики в адрес византийского, а значит и русского православного благочестия. Его он отождествил с «византизмом», который, по его оценке, отступил от богочеловеческого идеала. Здесь есть критика идей К. Леонтьева, которого он прямо не называет, и есть не особенно продуманное согласие с западными нападками на византизм. Последний, как писал Соловьев, во-первых, гасил творческое и социально-активное начало личности, а, во-вторых, неадекватно строил отношения между Церковью и государством, насаждал «цезарепапизм». Он означает, что кесарь незаконно присваивает себе всю власть над Церковью, а Церковь этому не противится. «Цезарепапизм» Соловьев назвал политическим арианством – такой же изменой духу Христову на Востоке, как и «папоцезаризм» на Западе у католиков, которые решили в Средние века, что папа должен взять в руки «два меча» – светской и духовной власти.
Термины «цезарепапизм» и «папоцезаризм» были придуманы католическими и протестантскими полемистами не позднее начала XVIII в. в спорах по вопросам соотношения светской и духовной властей. О научной выверенности содержания этих полемических терминов говорить, конечно, не приходится. «Цезарепапизм» они оценивали как пережиток язычества, затаившегося в православии. Термином «византизм» они обозначали искусственное объединение разнородных явлений церковной и политической жизни Византии и убеждали, что есть их единство там, где в действительности имело место множество разных лиц, поступков, ситуаций и событий. Протестанты критиковали примат папы и требовали признать, что между христианской верой и политикой нет ничего общего, а значит, светская власть должна полностью отделиться от церковной. Доставалось и Византии за то, что императоры вмешивались силой во внутрицерковную жизнь, хотя протестанты некоторое время принимали принцип «чья власть, того и вера», который означал, что светские властители решали вопросы религиозного выбора. В XX в. некоторые авторы стали усиленно отождествлять цезарепапизм с тоталитарным контролем государства над Церковью. Неприятные эпизоды незаконного вмешательства императоров в дела Церкви в Византии действительно были, но в византийской истории было и много другого – лучшего.
Вопреки Соловьеву и тем, на кого он ориентировался, византийское православие не следует считать безнадежно «цезарепапистским». Приведем оценку о. Иоанна Мейендорфа: «Византийское христианство никогда не присваивало императору абсолютной власти в вопросах веры и этики» (17, с. 226). Это подтверждают факты. Своеволие византийских императоров обличали св. Иоанн Златоуст, преп. Максим Исповедник, св. Иоанн Дамаскин, преп. Феодор Студит: «…Их писания, широко читаемые поколениями византийских христиан, всегда были на христианском Востоке авторитетнейшими образцами общественного поведения» (17, с. 227). Императоры династии Палеологов неоднократно подталкивали Церковь к унии с Римом, но Церковь воспротивилась и уния не удалась, как должно было бы произойти в русле «цезарепапизма».
«Византийское общество избежало цезарепапизма не противопоставлением императорам иной, соперничающей власти (то есть власти священства), но отнесением всей власти непосредственно к Богу» (17, с. 226).
Соловьев был прав, когда находил «цезарепапизм» в петербургской синодальной системе. В Византии «цезарепапизму» противостояла идея «симфонии» Церкви и монархического государства (хотя реальные отношения были сложнее и тяжелее «симфонии»). В Петербурге же восторжествовал монархический абсолютизм западного типа без «симфонии». Свидетельство этому – «Духовный регламент» еп. Феофана Прокоповича, где определено, что государь император является «крайним судией» в делах Церкви, что и есть «цезарепапизм». А по отношению к «византизму» Соловьев прав лишь отчасти. Юридически «цезарепапизма» не было, но все же он был как постоянное искушение, поддаваясь которому, византийцы непомерно превозносили автократию: «По отношению к своим врагам или внутренним диссидентам они вели себя так, как если бы Византийское царство уже было Царством Божиим, обладающим правом, конечно, судить и истреблять тех, кого оно почитало и своими, и Божьими врагами» (Мейендорф, 17, с. 230). Церковь преодолевала искушения и давление «цезарепапизма», но, как заметил о. Георгий Флоровский в статье «Империя и пустыня», «на Востоке Церковь впечатляющих побед над Империей не одерживала, влияние Царства на ее дела было значительным и подчас пагубным» (29, с. 273).
Тем не менее Византия была прежде всего носителем духа подлинного православия, хотя было и его искажение. В самой же Византии шла духовная борьба за верность правде Христовой. Искажение было также в московский период истории русского православия в виде «русифицированного и, следовательно, искаженного византизма» (прот. И. Мейендорф). Мы вправе сказать также и то, что приближение к богочеловеческому идеалу, за который ратовал Соловьев, – задача потруднее, чем можно подумать, читая его тексты. Многолетний покаянный труд и подвиг, которые для этого нужны, у Соловьева не получили должного освещения. Быть социально активным христианином, ориентирующимся на западные образцы, проще, чем пойти по пути длительного и неустанного покаяния и подвига.
В итоге признаем, что Соловьеву не удалось вывести проблему «Царь и Патриарх» из недолжного ее состояния, в какое завели ее западные межконфессиональные споры второй половины XIX в. Эти споры шли под знаком предпосылки, что разделение светской и духовной властей непреложно. Соловьев, когда в полемике с византизмом ратовал за теократию, отверг эту предпосылку, сохранив то, чем ее оснастили европейские полемисты («цезарепапизм» и пр.). В XX в. ее признали ложной не только православные, но и некоторые западные авторы (см., напр., Дагрон Ж., в сб.: ΓΕNNAΔΙΟΣ. М., 2000), но оппоненты по-прежнему есть, они настаивают, что никто не отменял принципа «нельзя служить двум господам».
О. Георгий Флоровский увидел правоту Соловьева в том, что он указал на «трагическую непоследовательность византийской культуры. “Византия была набожна в своей вере и нечестива в жизни”. Конечно, это яркая картина, а не точное описание. Мы, однако, можем признать, что в этой фразе подчеркнута известная правда. Идея “воцерковленной” империи оказалась неудачей. Империя развивалась в кровавых конфликтах, выродилась в обманах, двусмысленности и насилии. Но пустыня (монашество. – Л.В.) имела больше успеха. Она навсегда останется свидетельством творческого усилия ранней церкви, с ее византийским богословием, благочестием и искусством. Может быть это окажется самой живой и самой священной страницей в таинственной, постоянно пишущейся книге человеческой судьбы» (30, с. 649).
Не удалось Соловьеву также убедительно показать, что верность богочеловеческому идеалу непременно означает осуждение монашеского аскетизма как «практического монофизитства». Такие обвинения у него появлялись, но были отвергнуты оппонентами. В частности, С. Хоружий отметил, что Соловьев не разобрался, например, в существе исихастских споров. Ратуя за творческую самореализацию личности христианина, он не уловил самой сути исихастской аскезы – «…ее в высшей степени деятельного и динамического подхода к человеку. Он не различил в исихазме особого духовного процесса, возводящего человека к обожению и тем радикально трансформирующего все его существо, саму тварную падшую природу. И, всячески отстаивая в христианстве начало личности, он не увидел, что православный подвиг весь протекает в стихии личного бытия-общения, в напряженном молитвенном диалоге с личным Богом» (12, с. 197–98). Впрочем, надо отдать должное, Соловьев и сам не настаивал в поздних работах на своих обвинениях в адрес монахов. В «Трех разговорах», например, верность истине православия являет старец Иоанн из русского монастыря.