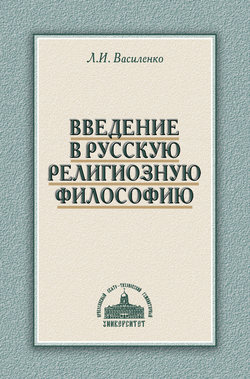Читать книгу Введение в русскую религиозную философию - Л. И. Василенко - Страница 19
Раздел II. Вокруг метафизики Всеединства Владимира Соловьева
Глава 6. Владимир Соловьев
§ 4. София
ОглавлениеО Софии писал еще Платон, говоря, что Мировая душа имеет двуаспектно выраженную разумность в виде Ума и Софии («Филеб» 30 c-e): София раскрывает все мыслительные потенции Ума, тогда как сам Ум – высший Субъект мышления (он же Логос и Зевс). София царствует над всем в земном мире.
Если Платон писал об Уме и Софии, имея в виду таинственную разумную пару в сумрачной космической глубине, то Соловьев рискнул применить сказанное им к сверхкосмической, нетварной, божественной жизни. В «Чтениях о Богочеловечестве» дается формула: Христос – это Логос и София. Соловьев как платоник приписал Христу двуединство Ума и Софии, он также истолковал Софию как основу жизни Св. Троицы: «В божественном организме Христа действующее единящее начало, начало, выражающее собою единство безусловно-сущего, очевидно, есть Слово или Логос. Единство второго вида, единство произведенное, в христианской теософии носит название Софии… София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство Христос, как цельный божественный организм – универсальный и индивидуальный вместе – есть Логос и София» (6, т. III, c. 115).
София понадобилась для описания пребывающей в Боге абсолютной формы единства всего существующего, при всем том, что Логос остается средоточием этого единства в вечности. У ап. Павла сказано иначе: Христос есть «Божья сила и Божья премудрость» (1 Кор. 1:24), а все, что было предвозвещено о Софии-Премудрости в Ветхом Завете (Притч. 8:22–31 и др.), – это прообразы того, что явлено в полной мере во Христе (1 Кор. 1:30; Кол. 1:15–20; 2:3). Соловьев рассудил по-своему и подал Софию как нетварную Божественную мудрость, как «духовное тело Божие», вроде божественно-разумной сущности всех трех Ипостасей. Если так, то она – неипостасна и должна быть безличной, но Соловьев не согласовал это с тем, что он постоянно говорил о ней как о запредельной личности: это «живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий» (6, т. III, с. 111).
Соловьев исходил не только из философии Платона и других авторов, но и из своего личного мистического опыта, который не тождествен с ранее описанной «мистической интуицией» Всеединства. Это опыт встреч с некоей неземной «дамой», который он с доверием описал в стихах «Три свидания» и «Das Ewig-Weibliche» (нем. «Вечно-Женственное»), а также в ряде других. Эти стихи принято считать свидетельствами его встреч с Софией, хотя сам он не давал ей в стихах такое имя. Есть основания сближать образ этой «дамы», как его описал Соловьев, с древними гностическими трактовками Софии у Симона Волхва, офитов (нахашенов) и Валентина. Например, выше отмечено, что, согласно Соловьеву, Логос воплощается и спасает падшую «мировую душу», т. е. земную Софию, а это – одна из любимых тем древних гностиков первых веков. Но у Соловьева есть нечто свое: София должна царствовать над всем мирозданием, вести его по путям восхождения, быть ему «богиней».
Весьма подробно соловьевское учение о Софии разбирал А.Ф. Лосев и выявил немало аспектов этого учения: «абсолютный, богочеловеческий, космологический, универсально-феминистический, эстетически-теоретический, интимно-романтический, магический, национально-русский и эсхатологический» (15, с. 256). Может быть, из-за того, что книга адресована была в советское издательство, ассоциаций Софии с Церковью в списке нет, но Лосев был вправе не считать, что соловьевское понимание Софии имеет что-то общее с Церковью. Описанная многоаспектность означала, что каждый энтузиаст мог найти в таком учении что-нибудь близкое и нужное себе. Видя озадаченность современников его учением о Софии, Соловьев решительно отверг всякие домыслы своих оппонентов о поклонении ей как «богине» и любое отождествление Софии с женским началом, внесенным в самое Божество, назвав это «величайшим безумием» и «величайшей мерзостью». Этому он противопоставил «истинное почитание Вечной женственности», которая получила от века «силу Божества» и вместила в себя «полноту добра и истины» и «нетленное сияние красоты». Н. Лосский, приведя эти слова, назвал тех, кто с сомнением относился к «софийному» опыту Соловьева как к искушению, более православными, чем само православие. Одними этими словами снять вопросы, однако, невозможно. Дело не только в том, что кто-то отличается особой склонностью подозревать и ставить неприятные вопросы, но в том, что существует реальная проблема: как церковно оценивать предложенный Соловьевым «софийный» опыт и его интерпретацию. В конце концов, даже о. Александр Мень относил его «софийные» видения к искушениям, не говоря уж об о. Георгии Флоровском, о. Сергии Булгакове, И.М. Андрееве и мн. др., кто находил здесь привкус сомнительной эротики.
Некоторые авторы вслед за С. М. Соловьевым (5) стали разбирать вопрос о каббалистических корнях этой софиологии (см. 25, 26). Определенные основания для такой постановки вопроса есть: в молодости Соловьев занимался Каббалой, хотя и не мог бы стать настоящим каббалистом никогда. Для этого надо быть, во-первых, евреем, достигшим 40-летнего возраста, во-вторых, иудеем, успешно прошедшим школу Талмуда, и, в-третьих, изучать Каббалу не по одним только книгам, а под руководством опытного мастера. Соловьев мог знать о ней в общих чертах по книгам и из бесед с осведомленными евреями. «Каббала для неевреев», – так назовем то, что ему могли изложить. Ныне нечто подобное, можно предполагать, в еще более упрощенном виде, широко пропагандируют в России М. Лайтман и др. Каббала могла побудить его к размышлениям о неземной Софии вот каким образом. Абсолют или Божество (Эн-Соф) как бы «уходит в Себя», внутренне «сжимается» (совершает самоограничение – «цимцум»), освобождая некое «место» или «прапространство творения». Там и появляется София как «другое Бога»; она становится посредницей между Богом и миром. «Любая разновидность софиологии… явно или скрыто базируется на допущении цимцума» (26, с. 75). Заявление это нуждается в дополнительном обосновании, но верно и то, что о «цимцуме» Соловьев хорошо знал (6, т. Х, с. 340). Если вспомним схему описания высшего Всеединства, где Абсолют порождает из себя «свое другое», сходство с Каббалой напрашивается само собой.
И. Киреевский сказал бы, если бы софиология попала в поле его зрения, что потемненное духовное состояние Соловьева, связанное с опытом встреч с «дамой» и последовавшими затем гностическими и каббалистическими исканиями, привело к искажениям в работе его творческой мысли, к снижению ее качества, и с этим можно только согласиться. Видеть в Софии «богиню» и одновременно быть свободным философом, бесстрашно ищущим истину, на что претендовал Соловьев, – невозможно. Подлинную свободу духа, как писал Хомяков, мыслитель обретает только в соборном сознании Церкви. Бесстрашие свободной мысли должно поставить «богиню» под вопрос. И к чести Соловьева нужно сказать, что в 90-е годы он имел мужество продолжить философский поиск истины без ссылок на софиологию, хотя личным чувством избранника Софии он дорожил еще долго, предоставляя ему возможность выразиться в своих «софийных» стихотворениях.