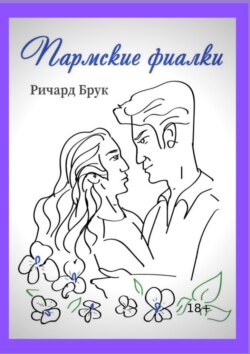Читать книгу Пармские фиалки. Посвящается Жану Марэ - Ричард Брук - Страница 10
Ричард Брук
Пармские фиалки
ГЛАВА 8. Любовники
ОглавлениеСолнце поднималось все выше и выше, его лучи становились все горячей, но не обжигали, а лишь приятно согревали нагие тела любовников, лежащих в кружевной тени ивняка, среди буйных зарослей акаций и бересклета. Одежда и обувь, предусмотрительно разложенные и оставленные на самом солнцепеке, уже успели высохнуть, но Эрнест и Жан не спешили покидать свой живописный приют. Полностью поглощенные друг другом, позабыв о заботах и долгах, они замкнули свой мир в кольцо страстных объятий, и бессчетные нежные поцелуи заменяли им разговор.
– Если бы мы были птицами или дикими котами, я бы предложил тебе остаться здесь навсегда… – выдыхал Эрнест в грудь любовника, целовал ее свод, дразнил кончиком языка то один, то другой сосок, чтобы снова и снова слушать стоны Марэ и заставлять его дрожать от удовольствия.
– Я бы с радостью последовал твоему предложению, друг мой… Мы поселились бы вон в том лесу, нашли бы себе уютное логово… вместе охотились на лягушек и мышей… а по ночам согревали друг друга… – мечтательно вторил юноше Жан, ласково поглаживая плечо и шею возлюбленного, и охотно позволял терзать себя сладостной пыткой.
Оба коня, выбравшись из холодной воды, мирно паслись на лугу, жадно пощипывая свежую сочную траву. Торнадо порой ревниво отгонял Арлекина от наиболее привлекательных куртин, но серый мерин не обижался и в драку не лез, просто отходил подальше и продолжал набивать брюхо вкусной зеленью. Ни тот, ни другой не изъявляли желания покинуть гостеприимное местечко и вернуться к тяжкой лошадиной работе.
– Знаешь, за что я больше всего люблю Бургонь?.. За безмятежность… – вздохнул Эрнест, и, прижавшись щекой к груди Жана, со стороны сердца, закрыл глаза. – Здесь хорошо и спокойно, как в объятиях матери… ну, по крайней мере, мне говорили, те, у кого есть мать… что в ее объятиях чувствуешь себя похожим образом – спокойным и счастливым… со мной такое в принципе бывает нечасто, но в этих краях – почти всегда. Вот мы с тобой лежим на земле голые… и вовсе не боимся, что на нас наткнется чертов патруль, или долбанная полиция нравов… и не скажет – «ах вы, чертовы извращенцы, жаль, что каторгу для вас отменили!» Здешние жандармы ленивы, как каплуны, если и наткнутся, то за сто франков пожелают приятного дня…
Марэ смешливо фыркнул, представив себе их встречу с патрулем или блюстителями моральных норм: настолько живо художник обрисовал эту картинку. Но за саркастическим тоном он расслышал и нечто иное – печаль и сожаление, когда Эрнест сравнивал Бургундию с материнскими объятиями. Жан вздохнул и помрачнел, догадываясь, что они оба познали горькую долю сиротства при живой матери31. Уж он-то знал, что тот, кто рано лишился нежной защиты от родного существа, получает пробоину в сердце, тянущую, не зарастающую пустоту, которую ничто не в силах заполнить. Ничто, кроме любви, идущей от сердца к сердцу…
Острая тоска и созвучность этому печальному опыту побудили Марэ сжать юношу в объятиях и покрыть его лицо и шею быстрыми горячими поцелуями:
– Никто… никто не посмеет обидеть тебя… мой мальчик… никто никогда не скажет тебе о том, что твоя любовь греховна, что за нее следует наказать… Я не позволю, слышишь, никому не позволю говорить подобное о тебе, мой ангел… мой драгоценный чистый ангел…
Эрнест вспыхнул, как порох, и уже готов был самым щедрым образом вознаградить своего короля за столь искренне выраженную готовность стать его защитником – это с ним вообще случилось впервые, обычно в роли защитника и сильной стороны выступал он сам – как вдруг со стороны проселка донесся глухой стук копыт и лошадиное ржание. И, судя по уровню производимого шума, к озеру приближался не один всадник, а целая кавалькада.
Обостренная интуиция художника сразу подсказала ему, кто это вдруг появился в ранний час, в пустынном месте, и Верней нахмурился:
– Та-ак… кажется, месье Марэ, за нами выслали погоню… надо что-то придумать, сир, и быстро, пока они не свернули к мосту.
Торнадо моментально оживился, оставил свое занятие, вскинул голову и навострил уши, его ноздри нервно затрепетали, и он определенно готовился оповестить четвероногих собратьев, что они вскоре вступят на его территорию. Арлекин тоже запрядал ушами, но отнесся к шуму более флегматично, трава привлекала его куда больше, чем другие лошади или люди.
– Тсссссс! – привлекая внимание жеребца, Эрнест тихо свистнул и вскинул руку в условном сигнале, призывающем молчать, но ему слишком хорошо были известны упрямство и вредный характер Торнадо – беспрекословное послушание не входило в число его достоинств.
Марэ приподнялся на локтях, сощурил глаза, силясь рассмотреть за густым кружевом зелени, кто же едет по дороге.
– Возможно, это не за нами, а просто месье Розавиль выгнал каскадеров на разминку… Они могут проехать мимо, не сворачивая с дороги к озеру…
– Могут… но нам все-таки лучше поберечься… и одеться…
Эрнест с огромным сожалением выпустил из объятий сильное тело любовника, пригибаясь к земле, как разведчик армии сопротивления, выбрался из зарослей, быстро собрал одежду и вернулся к Марэ как раз вовремя, чтобы не попасться на глаза всадникам, выехавшим из-за поворота.
Как он и предполагал, это были Роже, Ирма и… Гоше, тот самый конюх, что утром седлал Арлекина.
Пока Эрнест собирал одежду, Жан тоже времени не терял: ему вовсе не нравилась перспектива быть застигнутыми врасплох и сделать посторонних зрителей свидетелями интимной сцены. Он подобрался к Торнадо и, подманив его к себе, поймал повод и обнял за морду, не давая жеребцу подать голос и тем самым выдать их с головой. Конь, недовольный тем, что его лишили возможности обозначить границы своей территории, попытался сопротивляться, но Марэ твердой рукой закрутил край повода поверх носового ремня и сомкнул им челюсти Торнадо, как намордником. Жеребцу оставалось только недовольно храпеть и стучать копытом по земле, выгибая шею и роняя на руки человека хлопья зеленоватой от травы пены. Арлекину столь радикальные меры не требовались: повинуясь подзыву Марэ, он с философским спокойствием потрусил в укрытие и возобновил кормежку в густых зарослях ивы.
Эрнест уже натянул джинсы и сапоги, рубашку перекинул через плечо и, нетерпеливо покусывая губы, наблюдал за группой всадников, остановившихся перед мостом и, вероятно, решавших, куда же ехать дальше. Гоше что-то разъяснял Пикару, пожимая плечами и разводя руками, тот сосредоточенно кивал, а Ирма, приложив руку «козырьком» ко лбу, осматривала округу, как заправский жандарм…
– Черт! Ну, что тебе надо, ведьма ты рыжая? – с досадой прошептал Эрнест и топнул ногой. – Уезжай же, ну… уезжай! Вон туда, направо… к Бержу…
– Эрни! Эрни! Where are you?.. (Где же ты?) – видя, что наружное наблюдение не дает результатов, Ирма начала кричать; голос у нее был звонкий – отлично поставленное первое сопрано – и оно снова привело в волнение Торнадо… Жеребец недовольно заворчал и попятился назад, пытаясь освободиться от болезненно-давящего повода, но Жан повис у него на морде и вцепился в гриву, понуждая повиноваться, и конь обреченно покорился.
– Эрни! I’m here, I’m waiting for you! Answer me! Monsieur Marais is late for the shoot! (Эрни! Я здесь, я жду тебя! Ответь мне! Месье Марэ опаздывает на съемки!) – Ирма не оставляла своих попыток докричаться до вероломного любовника, не обращая внимания на Роже и Гоше, что-то говоривших ей сразу с обеих сторон.
Эрнест выпустил из ноздрей воздух, на манер разозленного Торнадо, и обернулся к Жану:
– У тебя случайно нет при себе пистолета? Или арбалета… праща, в принципе, тоже сойдет.
– Увы, весь мой реквизит остался в замке… – Марэ тоже желал побыстрее избавиться от назойливых визитеров, правда, методы выбрал бы менее жестокие, чем предложенные убежденным анархистом. Ему было вполне понятно упорство, с которым рыжеволосая леди разыскивала молодого и горячего любовника, пропавшего из замка, на ее месте он и сам ринулся бы на поиски…
– А эта англичанка очень настойчива… давно ли вы с ней знакомы?
– Нет… Я подцепил ее в Дижоне пару дней назад… точнее, это она меня подцепила, – усмехнулся Эрнест. – И знаешь, она действительно была настойчива, Бог знает почему. Мне пришлось переспать с ней в обмен на антикварный оловянный кувшин для вина. Что ты на меня так смотришь? Это чистая правда…
– Она заплатила тебе кувшином за ночь любви? – брови Марэ взлетели вверх, а лицо приняло слегка растерянное выражение. – А что же тогда она делает в замке? Ты пригласил ее погостить или просто не нашел достаточно вежливого предлога для того, чтобы распрощаться с ней еще в Дижоне?
По губам Эрнеста снова скользнула лукавая улыбка, он потянулся к Жану и сжал его запястье:
– Ты… правда меня ревнуешь, мой король, или мне показалось?..
Марэ опустил взгляд к земле, пряча улыбку, но ничего не ответил, желая услышать объяснение художника.
– Нет, все еще забавнее… она мне не платила, но мой член был единственным предметом, способным отвлечь ее от кувшина.
– Что ты такое говоришь?..
– Правду, я же сказал… Когда я зашел в лавку Кофмана, дама уже держала в руках тот самый винный сосуд, ради которого я с утра пораньше перевернул весь город… чтобы вы, синьор Калиостро, за обедом у барона Таверне, пили из настоящего кувшина восемнадцатого века, созданного немецкими мастерами, а не из реквизитного нелепого дерьма. – Эрнест поднес руку Марэ к лицу и жадно прижался к ней губами. – Надеюсь, кувшин тебе понравится… и занавеси… и ваза с мимозой…
– О… мой дорогой… ты идешь на слишком большие жертвы ради моей скромной персоны… – удивленный услышанным и растроганный неожиданной заботой Эрнеста о правдоподобности антуража будущей картины, Жан нежно погладил его по щеке.
Художник энергично помотал головой:
– Никакая жертва не может быть избыточной, когда речь идет о тебе… и об искусстве. И о том, чтобы ты прекрасно выглядел в каждой мизансцене, как настоящий Бальзамо! – и чтобы заткнулись эти мерзкие колбасники, что прочили на твое место какого-то там Хуера… Хаера…
– Хауэра?
– Да какая разница, Жан! – горячо воскликнул Эрнест и обвил руками крепкую шею Марэ. – Важно лишь, что это твоя роль, твоя, только твоя!.. Ты же настоящий Бальзамо… Колдун, алхимик, политик, революционер… и страстный любовник!
Жан тихо рассмеялся, и щеки его слегка покраснели:
– Нууу… насчет страстного любовника ты преувеличиваешь. В сценарии нет ни намека на то, что Бальзамо таков… Но во всем остальном ты прав, это моя роль, пусть даже она станет последней в моей карьере!
– Никогда! – пылко возразил художник. – Ты будешь играть… ты всегда будешь играть, в театре и в кино, и лучше всех! Зрители будут купать тебя в аплодисментах, а поклонницы и поклонники – в любви, и… выпадать из платьев и штанов при одном твоем появлении, даже когда тебе стукнет восемьдесят! Ведь время над тобой не властно, мой король, я точно знаю!..
Жан, растроганный бурным выступлением юноши против неумолимого хода времени, привлек его к себе свободной рукой и, крепко обняв за талию, прижался губами к теплому виску…
Тут ветер снова донес голос Ирмы, все еще не терявшей надежды высмотреть или дозваться беглеца, и на сей раз к пронзительному сопрано присоединился мягкий тенор Роже:
– Месье… виконт! Месье Марэ! Эрнест! Отзовитесь, хватит прятаться! Месье Марэ ждут на репетиции… наши немецкие коллеги в ярости!..
Верней зашипел от злости, едва Пикар во всеуслышание поименовал его «виконтом», да еще и помянул всуе немцев, отношения с коими не заладились еще до начала съемок, и, на всякий случай зажав Жану рот, яростно прошептал:
– Молчи! Молчи! Я тебя никуда не отпущу… ты не поедешь с ними!..
Марэ остался неподвижным и сдержанно кивнул, испытывая лишь малую толику вины перед съемочной группой за свою безалаберность, но в гораздо большей степени наслаждаясь тем, как властно и непререкаемо Эрнест, еще вчера такой далекий и отстраненный, заявил на него свои права. Он вжался губами в ладонь, пахнущую мимозой, и еще крепче приобнял любовника, прижимая его к себе с не меньшей властностью.
Эрнест видел, что всадники снова совещаются, расстроенно качают головами, подбирают поводья, собираясь уезжать – и наконец-то в самом деле трогаются в обратный путь. Оставалось угадать, что преследователи предпримут теперь: вернутся в замок или же продолжат петлять по округе, в надежде на счастливую случайность… Ирма была опытной наездницей, но с Чикитой, гнедой кобылкой тракененской породы, явно не поладила, а Роже вообще боялся лошадей, и взгромоздился в седло лишь потому, что не хотел ударить лицом в грязь перед англичанкой. Ну а Гоше ни за что не захочет пропустить обеда, так что Эрнест ставил на первый вариант развития событий.
Едва кавалькада скрылась за поворотом дороги, он выдохнул:
– Кажется, мы спасены… – и неосознанно, как в полусне, прибавил: – Любовь моя…
Телесная близость Жана, что еще накануне казалась неосуществимой мечтой, вводила его в подобие транса и постоянное возбуждение. Шаффхаузен наверняка бы этого не одобрил, как не одобрял любые наркотики, и назвал бы происходящее «избыточной вегетативной реактивностью», и непременно помянул бы, что человеку с такой лабильной психикой следует соблюдать режим и диету, «да-да, режим и умеренность во всем, в том числе и в половой жизни…» Эрнест даже покраснел и потряс головой, чтобы прогнать навязчивый образ доктора – он был таким ярким и реальным, словно Шаффхаузен и в самом деле прятался где-то среди ветвей и строго наблюдал за своим беспокойным пациентом и непослушным названным сыном:
– Идите к черту, герр… не до вас сейчас.
– Надеюсь, ты не меня посылаешь к черту? – едва Эрнест освободил ему рот, спросил Марэ. – Кто тебя беспокоит в твоих мыслях, мой мальчик? Ты опять где-то витаешь…
– Нет, нет, мой милый! – Эрнест виновато улыбнулся, и его ресницы и губы задрожали совсем по-детски. – Это все доктор… мой… психиатр… я у него лечился несколько лет назад, помнишь? И с тех пор он решил поселиться у меня в голове – видимо, чтобы следить, как я выполняю его рекомендации, и не вернулся ли к наркотикам. Да, я забыл вас предупредить, месье Марэ, что вы связались с психом и бывшим наркоманом…
– О, вы меня напугали, так напугали, месье Верней… – Марэ сделал серьезное лицо и, выставив перед лицом юноши руку, изобразил, что она дрожит от страха. – Псих! Наркоман! О ужас! Видите, я весь трепещу!.. – и тут же тепло и широко улыбнулся:
– Ах, «я странен, не странен кто ж?» Помнится, мой добрый друг и наставник, Жан Кокто, говорил, что только благодаря опиуму мог заглядывать в другие миры, где находил сюжеты своих стихов, пьес и картин… Я ему, конечно, не верил, я верил в его гений и огромное трудолюбие и понимал, сколько сил он прикладывал к тому, чтобы творить так вдохновенно и легко! Опиум лишь поддерживал в нем силы, спасал от боли, дарил яркие сны… ах, если бы он не был так сильно болен, то мог бы все еще быть с нами… я очень хотел бы познакомить тебя с ним…
Эрнест жадно слушал, ловя каждое слово, и пожирал Жана глазами, не желая выпускать из объятий – ему чудилось, что он спит, и каждую секунду боялся проснуться в одиночестве, и с горечью понять, что лишь во сне божественный мужчина мог обнимать его и посвящать в самые личные и сокровенные воспоминания…
– А я успел с ним познакомиться… ну, как познакомиться – скорее, повидаться… Это было на выставке керамики Пикассо, в пятьдесят девятом году… Месье Кокто там выступал… я был тогда мальчишкой, меня на выставку привела мать, но я улизнул от нее и… набрался наглости подобраться к мэтру, чтобы взять у него автограф. До сих пор храню буклет, на котором он расписался… жаль, тебя там не было, но к тебе бы я не рискнул подойти – умер бы на месте.
– Сколько же тебе было тогда лет? – полюбопытствовал Марэ, он и в самом деле только теперь понял, что не знает и не может определить точного возраста художника, не может даже с уверенностью сказать, исполнилось ли его юному другу двадцать…
– Тринадцать… я был лицеистом в Кондорсе.32
– О, ты тоже закончил Кондорсе? Значит, вы с Жаном вроде как однокашники… А что же так тебя пугало во мне в столь нежном возрасте, что ты так меня… боялся? – Марэ, конечно же, понял истинную причину, которая не позволила бы юному восторженному мальчику искать его внимания, но ему ужасно захотелось немного подразнить Эрнеста, заставить его признаться в своей давней и тайной влюбленности…
– Верно, тогда ты посмотрел со мной только «Красавицу и Зверя»33? И тебя пугал мой грим и страшный рык?
Губы Эрнеста снова дрогнули, глаза вновь затуманились от воспоминаний, и он сбивчиво прошептал:
– Твой рык?.. Вот уж нет… но меня страшно пугали твои горящие руки… и печальные глаза… а когда ты умирал на берегу пруда, я… черт… я плакал, как девчонка, и умирал вместе с тобой… и мне хотелось прибить эту чертову идиотку, что не смогла уследить за временем!..
Он нехотя разжал объятия и почти отшатнулся от Жана, прислонился спиной к стволу дерева и обеими руками стиснул лоб:
– Ах, зачем ты мне только напомнил про Зверя?.. Это же была моя детская травма, как сказал бы месье Шаффхаузен…
Всадники отдалились уже настолько, что можно было отпустить Торнадо, и Марэ освободил жеребца от тугого ремешка. Тот всхрапнул, недовольно встряхнул гривой, боднул Жана головой в плечо и гордо направился гонять Арлекина, который объел уже половину его делянки. Марэ подобрал с ближайшего куста свою одежду и принялся неторопливо облачаться, пока Эрнест делился с ним своими отроческими переживаниями.
– Но ты ведь знал, что Зверь не умрет? Знал, что он превратится в прекрасного принца?
– Я знал сюжет сказки… но еще я знал, в пьесах и фильмах месье Кокто герои почти всегда умирают… и я боялся… почему, почему ты у него всегда умирал?! Ты и в сказке умудрился умереть, даже дважды… Аденор ведь погиб, а Зверь исчез… остался Принц, который на тебя и похож-то не был!..
Жан с огромным сочувствием взглянул на молодого человека, внезапно ушедшего так глубоко в собственные воспоминания и связанные с ними горестные мысли, шагнул к нему и, заключив его лицо в ладони, буквально заставил очнуться и посмотреть на себя:
– Милый мой, милый мой мальчик, это всего лишь кино… только игра, притворство, это сказка о том, как человека преображает настоящая любовь… Да, Аденора не стало, как и Зверя, но разве Принц не прекрасен, разве он не понравился тебе? Кокто желал показать, что любовь возвышает человека над мелочностью обыденности и звериной природой, возносит на вершину духа… Разве же это не есть победа над смертью?
Эрнест на пару секунд припал к Марэ, точно расстроенный сын – к доброму отцу, и глубоко, прерывисто вздохнул, борясь со слезами, но цинизм взрослого, встав железной защитой, возобладал над чистым детским порывом, и художник криво усмехнулся:
– Ты совершенно прав… все это так, и все это прекрасно… но я знаю – читал, и ты удивишься, где – что мэтр Кокто настаивал на трагическом финале. И Белль должна была опоздать, и найти тебя… то есть Зверя… мертвым на берегу. Но его заставили изменить конец на счастливый34, и, наверное, когда я смотрел фильм, чувствовал, что в концовке что-то не так, и меня обманули. Потому что я тогда уже был влюблен в тебя… и с моей проклятой впечатлительностью замечал больше, чем другие…
Жан с нежностью поцеловал своего мальчика в повлажневшие глаза, потом в губы и привлек его к себе на грудь, и, обняв, стал бережно покачивать… Теперь он больше напоминал любящую мать, чем отца, и в этой неожиданной роли мог бы потягаться с настоящей матерью Эрнеста.
– Боже мой, какое у тебя чувствительное сердце… какая чистая и светлая душа… Прости, прости что заставил тебя грустить… это ведь и правда очень грустная сказка… Но не будем больше о ней, то дело прошлое… забудь… ведь вот он я, рядом с тобой… рядом наяву, а не в сказке или мечте…
Он хотел прибавить:
«И буду рядом долго-долго, столько, сколько ты захочешь… хоть всю жизнь» – но не решился делать таких признаний. Странная робость металлической горечью сковала язык. Если даже забыть о колоссальной разнице в возрасте – разве не сентиментальной глупостью прозвучат клятвы, намеки на что-то большее, чем необременительный роман? Как он вообще смеет надеяться на это после стольких потерь, измен, расставаний… при его-то беспорядочной жизни, долгах и отвратительном характере…
– О, мой король, прошу: избавь меня от незаслуженных восхвалений, как бы тебе не пришлось во мне разочароваться! – благодаря тактичности Жана, Эрнест успел обрести контроль над своими эмоциями, и вернулся к своей привычной насмешливости:
– Я просто псих, в чем и признался перед тобой, честно и открыто. И чтобы ты окончательно в этом убедился, заявляю, что я тебя похитил… и сейчас повезу не в замок, будь он проклят, а на ферму, где мы найдем отличное вино, масло, сыр и белые булки.
Предложение Эрнеста, весьма похожее на приказ, прозвучало более, чем своевременно – Марэ немедленно ощутил, что и правда голоден, и мысли о вполне земной пище и простом фермерском угощении обратили его к настоящему моменту, отогнав грустные размышления о будущем, лишенном какой-либо определенности.
– В таком случае, я разделяю твое сумасшествие! Долой печальные воспоминания! В пекло репетицию и примерку костюма!.. Да здравствует радостный бог Бахус! Едем же скорее!
***
«Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина»
Бургундская пословица
В «Кло де Вужо», кабачке с домашней кухней, открытом при винодельне с тем же славным названием, их встретили как родных. Эрнеста здесь хорошо знали, как и прочих представителей семейства Сен-Бриз, а необъявленный визит звезды французского кино за секунду стал местной сенсацией.
Только ранний час и рабочий день воспрепятствовал тому, чтобы в обеденный зал и на веранду набилась вся деревня, но тем не менее, Жану не удалось избежать стихийной встречи с поклонниками обоего пола. Рукопожатий, улыбок, надписывания фотографий и открыток, комплиментов и аплодисментов было в достатке…
Марэ не был в восторге от внимания, обрушившегося со всех сторон, он предпочел бы побыть наедине с Эрнестом, но положение обязывало… и, следуя наставлениям Кокто, актер с внутренним вздохом принял издержки своей популярности, и начал честно выполнять свою работу в части общения с благодарными зрителями.
Эрнест, понимая, что бороться с людьми, желающими выразить кумиру свою любовь и восхищение, не имеет никакого смысла, принял единственно верное решение – переждать волну, дать ей схлынуть… Тем более, что и подчеркивать свою особенную близость с Жаном, выставлять ее напоказ, он не собирался.
Ему было чем заняться: пока Марэ раздавал автографы, предстояло заказать еду и выбрать вино… Лучшим вариантом для позднего завтрака или раннего обеда казалось «Вужо Вилляж», белое и красное. Паштет, белый хлеб и сыр должны были идеально дополнить винный букет.
– Значит, правду говорят, месье виконт, что в вашем замке нынче кино снимают? – навела справки госпожа Бертье, розовощекая и полнотелая дама, с пышными каштановыми волосами, уложенными короной – она в этом кабачке подавала угощение столько, сколько Эрнест себя помнил.
– Как видите.
– А что за кино? Кого месье Марэ играет?
– Волшебника.
– Ой, вправду? – изумилась госпожа Бертье. – Это что же, как в той красивой сказке, где месье играл короля, а мадам Денёв – принцессу?35
– Вот уж нет, – усмехнулся Эрнест. – На этот раз он играет особенного волшебника… могущественного и довольно злого. Предсказателя будущего и… похитителя женщин.
– Ааааа… – прежде чем изумленная госпожа Бертье задала очередной вопрос, художник завладел ее пухлой рукой и запечатлел на ней такой поцелуй, что добрая хозяйка вспыхнула от удовольствия:
– Мадам, мы с месье Марэ все утро проездили верхом… выбирали натуру для съемок… и, если вы нам сейчас же не принесете кувшин вина и паштет, мы рискуем умереть от голода и жажды. Меня-то вам не жалко, я понимаю…
– Ай, ну что же вы такое говорите, месье виконт!..
– …но вряд ли захотите отвечать за гибель любимого артиста. Смилуйтесь же, госпожа Бертье, станьте на сегодня нашей Церерой, а говоря проще – кормительницей и поительницей.
– Все шутите, месье Эрнест! Никто еще у нас не умер ни от голода, ни от жажды… а уж для месье Марэ я принесу такой паштет, какого ему и в этом вашем Париже, на самих Елисейских полях не подадут!
– Эээх, матушка! Видал я те Елисейские поля! Ежели на них что и растет, то разве одни каштаны, да и те есть невозможно! – встрял в разговор благообразный крестьянин, доедающий свой суп за соседним столиком. Загорелая дочерна шея и узловатые руки лучше всяких прочих примет выдавали в нем потомственного земледельца, на всю жизнь связавшего с себя с пахотой, посевами, поливами и сборами урожая. – Вы уж не посрамите нас, попотчуйте мсье Марэ на славу! Подайте ему вашу зайчатину в горшочке, любому королевскому блюду оно фору даст!
– Не-ет, только не зайчатину! – поспешно воскликнул Эрнест, которому становилось дурно при одном упоминании об этом сельском деликатесе – на мертвых зайцев он сполна насмотрелся в детстве, когда в замке еще устраивались охоты, и с тех пор ничего подобного не выносил даже на экране, не то что в собственной тарелке.
– Ладно, раз зайчатина не по вкусу, подам фрикасе из фазана, – рассудила хозяйка и уплыла в сторону кухни. Крестьянин же продолжал ворчать, искоса посматривая на молодого человека, что хоть и выдавал себя за уроженца Бургундии, но вел-то себя как настоящий парижанин:
– Скажите пожалуйста – зайчатина им не по вкусу! Да вы просто никогда не едали рагу из ушастых, что готовит мадам Бертье! Совсем там заелись, в энтом своем Париже…
– Спасибо, спасибо вам за автограф, мсье Марэ! Вот моя доченька-то обрадуется! Она же вас просто обожает! Всю стену над своей кроватью вашими фотографиями и вырезками из журналов завесила! Всю стену! – последний из тех, кто желал урвать толику внимания и вещественное доказательство личной встречи с великим актером, пухлый усатый виноградарь, долго тряс ему руку, но в конце концов трактирщик вежливо оттеснил его в сторону и проводил Жана к столу, за которым его терпеливо дожидался Эрнест.
– Наконец-то… – прошептал художник и, схватив Марэ за руку, усадил не напротив, а рядом с собой на широкую дубовую скамью. – Я больше не могу слушать про зайчатину и наши парижские нравы… Но в одном этот товарищ прав: здесь и в самом деле готовят лучше, чем на Елисейских полях.
И непоследовательно шепнул мужчине, задевая губами ушную раковину:
– Когда мы вернемся я в Париж, я отведу тебя в один кабачок на Монмартре, недалеко от Пигаль… его мало кто знает… но обещаю, что тебе понравится. Если ты захочешь пойти туда со мной.
Жан порывисто сжал под столом пальцы Эрнеста, выражая полное согласие с его предложением, и в то же время желая предупредить более откровенные эскапады юного спутника. Он знал не понаслышке, а по собственному горькому опыту, что сельские жители в своих взглядах на приличия и мораль куда консервативнее парижан или обитателей Ривьеры…. Марэ же ни в коем случае не желал начинать работу над сценами в замке Сен-Бриз со скандала… из которого потом бульварные газетенки целый месяц будут стряпать самые грязные сплетни.
– А вот и вино!.. И хлебушек, только из печки! И паштет… пробуйте, месье Марэ, пробуйте, и вы, месье Верней…
– Превосходно! Благодарю вас, мадам! Эрнест, прошу вас, наполните наши бокалы, пока я нарежу хлеб и положу вам паштет. И масло! О, какое прекрасное масло! Я даже по виду могу сказать, что оно только что сбито… и восхитительно на вкус! – актер совершенно искренне нахваливал трапезу, радуясь, что юноша внял его просьбе и потянулся за вином.
– Бокалы! Такое вино нужно пить прямо из кувшина, вот сразу видно, что ты нездешний, – усмехнулся неисправимый шутник-художник. – Вот видишь, здесь ровно четыре «бокала» по пол-литра: два с красным, два с белым…
– Да не слушайте вы его, месье Марэ! – засмеялась хозяйка. – Месье де Сен-Бриз вам еще не то расскажет… Все у нас как у людей, все как положено. Позвольте, я вам сама налью…
Жан согласно кивнул, спеша занять аппетитной деревенской закуской свой рот и рот юного спутника, не в меру разговорчивый. Он ловко нарезал горячий хлеб на толстые ломти, густо покрыл их жирным паштетом, порезал каждый ломоть на несколько более мелких – и с жадностью голодного волка вгрызся в хрустящую корочку.
– Мммммм… нет слов, мадам Бертье! Просто язык можно проглотить, как это вкусно! Эрнест, прошу вас, пробуйте!
Утиный паштет тоже не входил в число любимых блюд Эрнеста – по тем же сентиментальным причинам, что и зайчатина, но отказаться от угощения, предложенного самим Марэ, да еще и в присутствии хозяйки, было совершенно невозможно.
Верней стоически запихнул в рот предложенную порцию, а потом еще одну, рассыпался в комплиментах хозяйке -и, все-таки схватив кувшин вместо стакана, стал пить из него большими глотками, не обращая внимания на кроваво-красные капли, стекающие по краям губ и падающие на воротник рубашки… Смотрелось это эффектно – как на картине Гойи или Веласкеса… и Жан с трудом боролся с искушением немедленно припасть ртом к белой коже, расцвеченной алыми брызгами. Это зрелище вновь разбудило в нем чувственные желания и заставило увлечься горячими фантазиями о том, что же будет дальше… ближе к ночи… когда крепкие и надежные стены замка скроют их от посторонних глаз и ушей.
Чтобы утолить жажду поцелуев, Марэ отобрал у Эрнеста кувшинчик и сам припал к нему там, где шероховатого глиняного края только что касались губы его прекрасного принца. Это был безрассудный и дерзкий поступок, от которого кровь только сильнее взволновалась. Взгляд мужчины, устремленный на юношу, сделался тяжелым и еще более жаждущим, но внешние приличия были все же соблюдены. Хозяйка отвлеклась на других гостей заведения, старик за соседним столиком уткнулся в тарелку с десертом, остальные посетители если и смотрели на них, то украдкой, соблюдая негласные правила вежливости.
31
У Марэ были крайне сложные и запутанные отношения с матерью, в детстве он ее нежно любил, под конец почти ненавидел, но тем не менее заботился о ней до конца дней. Жан Кокто вывел Розали в пьесе «Ужасные родители», однако, посмотрев спектакль, она себя «не узнала». К отношениям Марэ и Кокто она также относилась с большим предубеждением, хотя сама отнюдь не отличалась строгой нравственностью, имела множество любовников, страдала клептоманией и даже сидела в тюрьме за воровство.
32
Кондорсе – один из четырёх наиболее старых и лучших парижских лицеев, расположен в 9 округе, на правом берегу Сены, на улице Авр. Среди знаменитых выпускников лицея были писатель Эжен Сю, художник Тулуз-Лотрек, актер Луи де Фюнес и… сам Жан Кокто. Так что неудивительно, что Эрнест знал и уважал мэтра.
33
Фильм «Красавица и Зверь» был снят Жаном Кокто в 1946 году, и считается шедевром французского кино. Марэ играет сразу три роли: Зверя, Принца (преображенного Зверя) и Аденора, жестокого жениха Белль. Роль Зверя – одна из лучших в карьере Марэ, его грим для нее занимал по 5 часов ежедневно.
34
Это правда: Кокто планировал трагический финал.
35
«Ослиная шкура» очень красочный фильм-сказка 1970 года