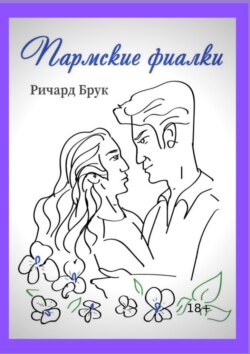Читать книгу Пармские фиалки. Посвящается Жану Марэ - Ричард Брук - Страница 6
Ричард Брук
Пармские фиалки
ГЛАВА 4. Оммаж
ОглавлениеЭрнеста арестовывали далеко не в первый раз. Протирать штаны и глотать пыль в полицейском участке, а то и проводить неуютные ночи в камере арестного дома ему доводилось и за нарушения общественного порядка, и за проступки посерьезнее. Несколько лет назад, в Ницце, когда он по стечению обстоятельств оказался полу-пациентом, полу-гостем в клинике Шаффхаузена, его вместе с Жаном Дювалем загреб чрезмерно ретивый патруль, по обвинению «в оскорблении морали и нравственности». Разрешение неприятного недоразумения обошлось Шаффхаузену, внесшему залог, в кругленькую сумму, а Дювалю едва не стоило медицинской карьеры… Эрнест отделался стыдом перед пожилым доктором и страхом за любовника, которого по глупости и беспечности чуть не подвел под монастырь.
С тех самых пор он зарекся иметь дело с девственниками, желающими познать мужскую любовь, но не очень-то готовыми принимать риски и последствия такого выбора; и хотя сексом в неположенных местах по-прежнему занимался, проколов с полицией по этому поводу больше не случалось ни разу. Зато его многократно задерживали за пьяные дебоши и драки, однажды – за вандализм (он нарисовал на витрине ювелирного магазина серп и молот, черную кошку8 и сделал надпись – «Свобода или смерть!»), а за активное участие в «несанкционированных сборищах» вместе с революционно настроенной молодежью Сорбонны едва не упекли за решетку на два года (именно столько просил обвинитель).
К счастью для Вернея, ему попался либерально настроенный судья, и дело закончилось «всего лишь» крупным штрафом. Граф де Сен-Бриз готов был выделить необходимую сумму из семейного состояния, но Эрнест наотрез отказался принять деньги отца, и, распродав и заложив большую часть личного имущества, сам погасил «долг правосудию». Увы, это пробило в его финансах такую брешь, что залатать ее до конца не получалось вот уже года четыре, несмотря на то, что картины Эрнеста успешно продавались, и популярность скандального художника росла.
Поездка в Лондон, предпринятая им год назад, помимо желания сбежать от назойливых кредиторов, была еще и честной попыткой начать жизнь с чистого листа, поправить дела, остепениться и, черт возьми, обзавестись если не постоянным другом – то нормальной, правильной женой. Но, несмотря на честность и пылкость намерения, оно не сработало… Сердце Эрнеста снова оказалось разбитым, финансы по-прежнему пели романсы, а возвращение в Париж быстро привело художника к пониманию, что он, хотя и повзрослел, в своей сути изменился очень мало.
Драка в «Лидо» за честь Жана Марэ – не связанного с ним никакими узами, кроме односторонней юношеской влюбленности, и не просившего о защите – стала тому очередным ярким подтверждением. И неизвестно было, чем теперь кончится дело: надежды Розочки, что Эрнеста быстренько оштрафуют и отпустят восвояси, не оправдались. Кунстманн, едва умыв лицо от паштета, кинулся вслед за полицейскими, прибыл в участок и подал официальную жалобу.
Послушать этого немца, так он не пару раз получил по физиономии от некрупного тонкокостного парня, а подвергся нападению самого дьявола, едва не растерзавшего беднягу на мелкие кусочки… Теперь, пылая праведным гневом, Ури жаждал полицейского возмездия и требовал крови – угрожая в случае отказа нажаловаться еще и консулу, довести дело до международного скандала.
Попытки Пикара урезонить разбушевавшегося немца, умаслить и уговорить отозвать жалобу, успеха не имели, пожалуй, от них стало еще хуже. Кунстманн заявил, что Пикар нарочно заманил его в ловушку, чтобы устроить провокацию, а теперь покрывает преступника, и, если будет продолжать – он и на него подаст жалобу. Следом в участок прикатил еще и Фриц, чтобы дать ценные свидетельские показания и поддержать товарища; дошло до звонка комиссару, несмотря на поздний час, и тот, от греха подальше, велел поместить задержанного в камеру – «до выяснения всех обстоятельств и принятия решения о мере пресечения». Это означало, что Эрнеста продержат как минимум до завтрашнего утра, но могут закрыть и на трое суток, а если Кунстманн продолжит лезть в бутылку, и художнику совсем не повезет, он останется под стражей до дня судебного разбирательства…
Веселого было мало, но Верней по опыту знал, что хныкать и жаловаться, равно как и качать права, требуя особого отношения, бесполезно и только навредит… Так что он вполне беспечно позволил снять с себя часы и ремень, надеть наручники (полицейские обошлись бы и без них, усердствовали лишь для острастки) и увести в камеру предварительного заключения.
Неожиданным приятным сюрпризом стал сокамерник – красавчик-марокканец лет двадцати двух, с громадными черными глазами и длиннющими ресницами, задержанный за торговлю травкой. Поначалу он притворялся, что не понимает по-французски, но, убедившись, что Верней не представляет никакой угрозы и меньше всего похож на полицейского провокатора, сам подсел к нему и, дразняще улыбаясь, попросил закурить. У Эрнеста была при себе едва начатая пачка «Житан» – при досмотре ее не забрали, как и спички – и он радушно поделился со страждущим… после чего Джемаль (так представился товарищ по несчастью) подмигнул ему и вытащил свою пачку. С виду это были невинные биди9, обычное дешевое курево иммигрантов, но стоило принюхаться, как у сигареток обнаруживался тонкий экзотический запах… Можно было только догадываться, как предприимчивому марокканцу удалось пронести в камеру такое богатство. Благоразумие требовало отказаться от угощения, не хватало еще, чтобы к обвинению в хулиганстве и побоях присовокупилось нарушение дисциплины в полицейском изоляторе, да и кто знает, что за намерения скрывались за щедростью незнакомого араба.
Но Эрнест начинал чувствовать тоску и апатию, что частенько случалось с ним после приема изрядной доли алкоголя и адреналиновой вспышки. Он знал, что если не встряхнет нервную систему прямо сейчас, то к утру будет как выжатый лимон, не способный связать два слова, и в то же время агрессивно ненавидящий всё человечество… и это замечательное состояние точно не облегчит его положения и не поспособствует установлению контакта с комиссаром.
Верней взял предложенную биди. Конечно же, внутри был не простой табак-самосад, а марихуана, с примесью какой-то пряной травки, маскирующей характерный маслянистый аромат.
– Что? Хорошая? – спросил Джемаль и сверкнул белоснежной улыбкой, когда художник с видом знатока кивнул головой:
– Отличная… – он откинулся спиной на стену и прикрыл глаза, наслаждаясь курением, как медитацией, и тут марокканец прошептал ему на ухо:
– Ты красивый… – голос его охрип от возбуждения. Эрнест неохотно разомкнул веки, собираясь объяснить, что благодарен за травку, но в дальнейшем не заинтересован, спасибо, нет. Рука Джемаля тем временем потянулась к застежке на брюках, расстегнула верхние пуговицы, вытащила наружу край рубашки и пробралась под нее, легла на живот. Член художника отреагировал предсказуемо и начал стремительно твердеть… алкоголь никогда не влиял в худшую сторону на сексуальные желания и возможности Вернея, и, судя по намекам отца, это была счастливая фамильная особенность.
В полумраке глаза марокканца блестели, как драгоценные камни, смуглая кожа была горячей и нежной, а от вьющихся смоляных волос пахло дикими травами и дымком костра… бедуинского костра…
«Черт возьми, а почему бы и нет?» – сказал себе Эрнест. Если уж нарушать режим, так с размахом… и, может, это нежданное приключение в тюремной камере отвлечет от горестных мыслей, нападавших ночами, вытряхнет Эррин из его снов.
Джемаль еще что-то шептал, мешая французские слова с арабскими – кажется, это были восхваления – но художник не вслушивался, уплывая все глубже в терпкий и сладострастный морок, и лишь рассеянно кивнул:
– Да, да, давай… – когда молодой человек соскользнул на пол, встал на колени и уже намного смелее стал расстегивать на Эрнесте штаны.
Минет в исполнении Джемаля был восхитителен – лучше всякого десерта или шоу с танцовщицами; марокканец не отрабатывал повинность, а в самом деле старался доставить партнеру как можно больше удовольствия и умело растягивал процесс. Эрнест кусал губы и судорожно цеплялся за края койки; он не желал быть громким и привлекать внимание охраны, зная, что если их засекут, то в лучшем случае обзовут последними словами и приласкают ударами по почкам, а в худшем запрут поодиночке в вонючий карцер… но Джемаль, занимаясь его телом, сам настолько угорел от страсти, что позабыл о всякой осторожности. Не дав Эрнесту и секунды придти в себя после оргазма, он привалился к нему и с громкими стонами стиснул в объятиях; так что настал черед художника одной рукой зажимать умелый и несдержанный Джемалев рот, а другой – платить долг признательности… к счастью, горячий красавец кончил очень быстро. Кончил и сомлел на плече у Вернея, как утомившийся на уроках школьник.
Эрнест медленно, глубоко выдохнул, осторожно прислонился к стене и подумал, что если прямо сейчас в камеру заглянет охранник, то они все трое явят собой законченную гомоэротическую миниатюру, сцену из «Песни любви».10 За окном тоже цвела весна, и терпкий сигаретный дым, смешанный с мускусным запахом семени, был на месте, не хватало только гирлянды из живых цветов…
С этой будоражащей мыслью он и уснул.
***
Сон на тюремной койке в объятиях Джемаля неожиданно оказался крепким и сладким – таким крепким, что Эрнест едва не проспал утренний обход. Интуиция все же сработала, и глаза художника открылись за несколько минут до появления проверяющего.
– Эй… Алибаба… Проснись, дружок, время покинуть пещеру Сезам… Мне очень жаль, но ты должен меня отпустить. – Верней тряс марокканца за плечо и пытался увещевать, взывая к рациональной части сознания, если таковая имелась у этого рискового парнишки, но Джемаль, все еще одурманенный травкой и расслабленный от нежного тепла (как-никак они целую ночь согревали друг друга, как те самые бедуины у костра), лишь протестующе стонал и не желал поднять голову с груди любовника. Это недовольство можно было понять. Эрнеста и самого изрядно штормило после вчерашнего, затылок был налит свинцовой тяжестью, и в идеале он бы предпочел выпить бутылку минеральной воды и чашку крепкого кофе, а потом завалиться досыпать – и чтобы его не беспокоили часов двенадцать… Увы, текущая реальность ни в малейшей степени не соотносилась с желаниями. Убедившись, что уговоры бесполезны, Эрнест от слов перешел к действиям и сумел-таки освободиться из скульптурно-безупречных, но цепких рук марокканца. Он по-быстрому отлил, плеснул в лицо водой из ржавого умывальника и отсел на соседнюю койку – как раз вовремя, чтобы вошедший охранник не застал в камере ничего предосудительного или подозрительного…
– Давайте, месье, на выход, – неприветливо буркнул служитель закона. -И побыстрее, велено вас сперва в душевую сводить, в порядок привести… и чтобы переоделись.
Не успел удивленный Эрнест уточнить, с чего вдруг о нем проявляют такую предупредительную заботу – неужели боятся задеть нежные чувства комиссара, явив ему нарушителя плохо проспавшимся и в несвежем белье?.. – как охранник сунул ему в руки объемистый пакет с чистой одеждой и туалетными принадлежностями и поторопил:
– На выход, месье! Вас ждут!
– Кто меня ждет? – ответ был очевиден – скорее всего, Розочка, ну не английская же королева привезла ему любимые джинсы и рубаху! – но полицейский посмотрел на него как-то странно и хмыкнул:
– А то вы не знаете…
Эрнест пожал плечами, бросил прощальный взгляд на Джемаля, слегка жалея, что не обменялся с ним телефонами – все-таки секс с горячим сыном Северной Африки вышел таким классным, что при случае можно было и повторить – вышел из камеры и под бдительным оком полицейского направился к душевой.
***
Через четверть часа, изрядно посвежевший, одетый как полагается и даже тщательно причесанный, художник снова предстал перед своим стражем и заявил, что теперь к встрече не только с родными и близкими… но и со Всевышним, если его вдруг собираются расстрелять.
– Идите-ка вперед, месье шутник… – пробурчал флик11. – Таких, как вы, теперь не расстреливают, а жаль. Я бы вас всех, педиков, к стенке поставил!
– Да уж знаю таких любителей ставить нашего брата к стенке, – усмехнулся Эрнест, хотя у него кулаки зачесались надавать этому мужлану в форме по сизой одутловатой физиономии. – Ноги на ширину плеч, руки на стену… а сами везде пощупать, пока можно!
В ответ он получил тычок в спину – несильный, но болезненный – и невнятное бурчание на тему «ох, попадешься ты мне еще раз…» На этом приятная беседа закончилась, поскольку они достигли конечной точки маршрута: «приемной», или канцелярии, где следовало завершить все формальности, связанные с освобождением из-под стражи… По крайней мере, Эрнест на это очень рассчитывал.
Войдя в нужное помещение, он не сразу понял, что происходит: на относительно небольшом пространстве столпилось по меньшей мере человек пятнадцать-двадцать, оживленных и возбужденных. Все галдели, размахивали руками с зажатыми в них записными книжками, почтовыми карточками и листами писчей бумаги, и куда-то тянулись, чуть ли не залезая друг другу на голову. На художника с провожатым никто даже не посмотрел… Эрнест немного нервно огляделся, пытаясь найти Розочку или кого-то еще знакомого, решившего внести за него залог, и пошутил:
– Что это? Вся смена решила меня проводить, да еще автограф попросить на прощание? Не знал, что драка в «Лидо» сделает меня звездой полицейской префектуры…
– Не вас, месье, – мстительно хмыкнул провожатый. – Вы тут совершенно ни при чем. А вот ваш… друг… он и впрямь звезда, тут не поспоришь!
– Друг?.. – пробормотал Верней и с силой ущипнул себя за руку, поскольку на пару секунд ему показалось, что он видит самого Жана Марэ – прижатого к дальней стене кабинета неистовствующими поклонниками и кротко надписывающего открытки и фотографии.
– Черт побери, что все это значит?
Вместо ответа он услышал задыхающийся голос Розочки:
– Эрни! Слава Богу!.. Я уж думал, ты никогда не выйдешь… – Пикар, пробившись через толпу, выскочил сбоку и судорожно схватился за художника обеими руками: -Уффф, ты здесь!.. Ты в порядке?
– Да в порядке я, в порядке, что со мной станется!.. А здесь что происходит, объясни? Там… у стены… месье Марэ, или у меня белая горячка?
Роже счастливо засмеялся и обнял Эрнеста за плечи:
– Конечно, месье Марэ, собственной персоной! Пришел спасти твою буйную голову от карающего меча, как и подобает рыцарю без страха и упрека!..
– О, черт… – Верней на секунду замер, а в следующий миг залился краской до корней волос. – Но… как он узнал?.. Это ты его сюда притащил?..
– Конечно, я! Кто же еще! Разбудил на рассвете, и он оказался так любезен, что сразу же согласился стать твоим поручителем… и даже привез меня сюда на своей машине!
Эрнест снова ущипнул себя, чтобы убедиться, что все происходит наяву, а не во сне -и, не слушая, а точнее, просто не слыша трескотню Роже – с почти религиозным благоговением устремил взор на кумира своей юности, что явился спасти его. Спасти снова, пусть на сей раз не от смерти, а от тюрьмы, но главное, это повторилось…12
Он смотрел и не верил своим глазам, и не мог перестать смотреть, Марэ же никак не мог освободиться от назойливых фликов, атаковавших его со всех сторон, с требованием автографов, рукопожатий и совместных фото.
Наконец, живая «пробка» вокруг кинозвезды рассосалась, и Пикар получил возможность торжественно подвести Эрнеста к Жану Марэ.
«Спасенного к спасителю, нераскаянного задиру к респектабельному поручителю… Как бы это обыграть поизящнее?.. А, вот, придумал! Вассала к сеньору, для принесения оммажа!13 Да-да… они оба должны оценить».
Он едва набрал в грудь воздуха, чтобы исполнить ритуал представления «вассала» по всем правилам этикета, как вдруг Марэ залился краской и, глядя на художника в упор, горячо воскликнул:
– Вы?.. Это в самом деле вы!..
– Это… я… – прошептал Эрнест и опустил голову. – Бог мой! Вот так встреча!..
– Да… весьма неожиданная…
– Ну да, конечно же, это Эрнест Верней, как я и говорил, месье… – начал Роже, сбитый с толку странной реакцией мэтра, но ни Эрнест, ни Марэ не обратили на него внимания. Они смотрели только друг на друга, буквально пожирая взглядом, и вели себя… как влюбленные, встретившиеся после долгой разлуки! Бедный Розочка словно стал стеклянным, превратился в невидимку или полосу тумана.
– Как же я рад вас видеть, Эрнест, слава Создателю, вы живы и здоровы!
– Я тоже, месье… жив и здоров благодаря вам.
– Но почему же вы ни разу не позвонили мне за три года, не написали? Ведь у вас была моя карточка…
– Я… не решился, месье Марэ. Мне и в голову не приходило, что…
– Что? Что я буду интересоваться вами после той встречи в поезде?..
– …Что вы оказались заинтересованы до такой степени – клянусь, даже не предполагал.
– И напрасно. Я о вас часто думал за эти три года. Не мог забыть.
– Встреча в поезде? – Роже Пикар снова настойчиво попытался привлечь к себе внимание и, взяв Эрнеста за руку, крепко сжал ее. – Ты мне никогда не рассказывал, что лично знаком с месье Марэ…
– Я много чего тебе не рассказывал, – парировал Верней, не сводя глаз с Марэ, и в этот злосчастный миг Розочка понял, что его скоротечному роману с художником пришел конец. А в следующее, не менее горькое мгновение он отчаянно, до слез, до кома в горле пожалел о необдуманном решении помчаться в Марн-ля-Кокетт, чтобы разбудить мэтра – и пасть к его ногам, с мольбой о спасении «паладина». Ах, если бы он только знал заранее, что эти двое знакомы, и судя по всему – более чем коротко, то с легкой душой позволил бы Вернею сесть в тюрьму! Лучше ходить на редкие свидания и носить передачи, преданно ожидая конца срока, чем спасти любовника из когтей закона – и потерять навсегда…
8
Черная кошка, выгнувшая спину – один из популярных анархистских символов, «Свобода или смерть!» – анархистский лозунг, воспринятый французами от Нестора Махно.
9
Индийские сигареты Биди (иногда встречается название бири, бинди) – тонкие азиатские сигареты небольших размеров, самокрутки из сухого листа с необработанным табаком внутри.
10
«Песнь любви» – скандальная культовая черно-белая короткометражка Жана Жене, снятая в 1950 году, воспевающая однополую любовь и эротизм мужского тела. Действие происходит в тюрьме, между заключенными в одиночках, мечтающими о любви и друг о друге, и наблюдающим за ними охранником. Во Франции эта лента некоторая время считалась порнографической, что не помешало ей войти в золотой фонд киноклассики.
11
Самое распространенное во Франции прозвище полицейских – флик (flic). О происхождении слова французы спорят до сих пор. Оно появилось в середине XIX века. Первоначально полицейские назывались мухами (mouche). Затем, считают эксперты, французскую «муху» заменила нидерландская fliege, превратившаяся в flic. Уже много позже французы придумали расшифровывать слово flic как Federation Legale des Idiots Casques (в буквальном переводе «Легальная федерация идиотов в шлемах»). А еще французских полицейских называют poule – курицами (парижское полицейское управление на набережной Орфевр занимает место там, где раньше торговали птицей).
12
см. «Где мимозы объясняются в любви», в этой новелле описаны обстоятельства первой личной встречи Эрнеста и Марэ в 1969 году.
13
Оммаж -от фр. hommage – признательность, знак уважения. Изначально термин означал одну из церемоний символического характера в феодальную эпоху. Это была присяга, оформлявшая заключение вассального договора в Западной Европе Средних веков и заключавшаяся в том, что будущий вассал, безоружный, опустившись на одно колено (два колена преклоняли только рабы и крепостные) и с непокрытой головой, вкладывал соединённые ладони в руки сюзерена с просьбой принять его в вассалы. Сюзерен поднимал его, и они обменивались поцелуем.