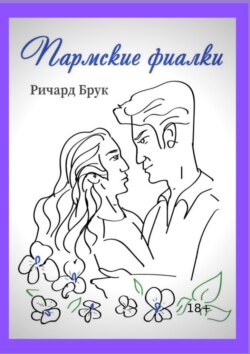Читать книгу Пармские фиалки. Посвящается Жану Марэ - Ричард Брук - Страница 7
Ричард Брук
Пармские фиалки
ГЛАВА 5. Лекарство от любви
ОглавлениеДерзкий солнечный луч, проникая в галереи Лувра сквозь голубовато-серые стекла, играл на щеке Эрнеста, золотил белоснежную кожу, покрытую легким пушком, заставлял зеленые глаза сиять, как изумруды, и смягчал резковатую линию губ… Не просто смягчал – делал ее настолько чувственной и притягательной, что Марэ хотелось своими губами поймать этот отблеск апрельского солнца. Он смущался этого неуместного желания, отводил взгляд, старался смотреть куда угодно, но только не на рот молодого человека, идущего рядом… но получалось плохо, из рук вон плохо.
Вот уже два часа Жан Марэ с Эрнестом Вернеем, артист с художником, бродили по Лувру, незаметно перемещаясь с этажа на этаж, из зала в зал, и разговаривали обо всем на свете, перескакивая с темы на тему с непринужденностью давних друзей. Изобразительное искусство, история Франции, предпочитаемый сорт винограда и марка вина, предстоящая работа на съемках, кино вообще, любимые фильмы, нашумевшая премьера «Крестного отца»14, путешествие в СССР (они побывали там оба, но в разные годы), рабочие забастовки и траурная демонстрация на похоронах Овернэ15 (Эрнест в ней участвовал, Марэ -нет, но причислял себя к сочувствующим) … и пряной приправой ко всему этому был постоянный, обоюдный, но тщательно завуалированный флирт. Желание витало над ними горьковатым дымком «Галуаз», холодным ароматом фиалок, сквозило в обращенных друг к другу взглядах, звучало в тембре голоса и внезапно повисающих паузах…
Лет десять назад Марэ, или Зверь, как он сам любил называть себя с легкой руки покойного Жана16, не стал бы теряться, проявил бы инициативу и позвал бы Эрнеста сперва выпить по стаканчику, а после пригласил к себе. Собственно, так он и поступил, впервые встретив Жоржа, что раз пришел к нему в гости – и остался на годы… Увы, увы и увы. Время беспощадно, у часов есть лишь одно направление – вперед, и молодость, вместе с ее самоуверенностью и задором, таяла, утекала меж пальцев.
Марэ давным-давно привык к своей славе, к восторженной любви поклонников, но и того, и другого становилось все меньше. Раньше он не мог выйти из дома, чтобы через десяток шагов не попасть в плотное кольцо стерегущих его почитателей, теперь же… его узнавали, безусловно, узнавали, но не сразу и не все. Он иронически относился к известности, не был рабом суетного тщеславия – и все же, что скрывать, немного обидно было ощущать себя угасающей звездой. Такая глупость: вроде бы ты еще о-го-го, полон страсти, нерастраченного огня, но рядом с двадцатипятилетним юношей превращаешься в смешного и нелепого старика. Сатира, возомнившего ни весть что… смеющего телесно желать и оскорблять своим вожделением чужую молодость и сияющую красоту. Жан вовремя понял, что так нельзя, и дал ему свободу, а он – он не сумел вовремя отпустить Жоржа17, и дотянул до того, что уставший возлюбленный вынужден был сам бросить его.
Марэ пережил эту потерю, справился с ней, научился жить один в своем доме, что сразу стал слишком большим, слишком просторным… и постепенно привыкал быть тенью самого себя. По-другому жить. Играть другие роли… Зачем же, для чего в устоявшееся, размеренное течение дней вдруг без спросу врывается юный торнадо, и своим свежим, опасным дыханием сводит с ума?..
– Что? – Марэ осознал, что художник задал ему какой-то вопрос, и немедленно извинился за свою рассеянность. – Простите, Эрнест, я отвлекся… столько воспоминаний… Я давно, очень давно не был в Лувре. Вы прекрасно сделали, что вытащили меня сюда. Сколько же здесь чудес, невероятно…
«А чудеснее всего, что вы – со мной, и я, милый юноша, могу любоваться вами».
– Вы сняли камень с моей души, месье Марэ, – рассмеялся Эрнест с явным облегчением. – Я… как раз хотел узнать, не утомила ли вас наша прогулка? Я-то могу бродить здесь не только часами, но и днями, неделями… и в своем желании стать луврской летучей мышью или пополнить компанию местных привидений забываю, что не все похожи на меня.
Было не так уж важно, что говорит Эрнест – Марэ мог бы просто смотреть, как двигаются его красивые губы – но вежливость и благоразумие диктовали иные правила для беседы:
– А знаете, месье Верней… как раз в этом мы с вами похожи, и я сам был бы не прочь обернуться призраком и никогда не покидать Лувра. Вот скажите, где бы вы поселились, если бы вдруг явился волшебник и исполнил наше желание?
– Как приятно, что у нас с вами есть общие желания, месье… – бросив этот откровенный намек – не зная, что тем самым плеснул масла в огонь – Эрнест сделал вид, что серьезно раздумывает над вопросом:
– Нуууу… полагаю, что в основном я проводил бы время вблизи лестницы Дарю, в компании Ники Самофракийской… люблю, знаете ли, женщин, способных настолько потерять голову!..
Марэ от души засмеялся над шуткой своего остроумного спутника, а Эрнест, польщенный реакцией, не дал ему отдышаться:
– Но знаете что, месье Марэ?..
– Что?
– Я думаю… нам с вами обоим пришелся бы по душе семьдесят седьмой зал галереи Денон18… Райское местечко для романтиков, в красоте прошлого черпающих силы, чтобы существовать в настоящем и не терять надежды на будущее.
– Ммммм… вы очень красиво это сказали, мой друг, но увы, я не так хорошо, как вы, знаком с расположением залов и коллекцией.
– Тот самый, где мы с вами добрую четверть часа простояли перед «Свободой» – с ее восхитительной грудью и фригийским колпаком.
– Да, вы правы… припоминаю. – Марэ вновь мягко улыбнулся, сдерживая печаль, посетившую его, когда художник дважды походя расписался в своем чувственном притяжении к женским прелестям, пусть даже мраморным или написанным на холсте. Это снова убедило его в необходимости взять под контроль собственное влечение, и с достоинством выйти из ситуации, что вскоре могла стать обоюдно неловкой:
– Лучше признаюсь, пока не поздно… я в самом деле немного устал. Сегодняшний день начался очень уж рано, а сейчас время к ужину, и…
Улыбка Эрнеста мгновенно погасла – словно кто-то выключил солнце – и на лице выразилось разочарование столь горькое, что это окончательно смутило и сбило Марэ с толку. Он поглубже вдохнул, сделал шаг навстречу художнику, взял его за руку и, глядя прямо в глаза, взволнованно проговорил:
– Но… вы ведь не откажетесь поужинать со мной, месье Верней? Терпеть не могу есть в одиночестве… а тем более, пить.
***
Около трех часов ночи доктора Эмиля Шаффхаузена разбудил телефонный звонок. Доктор недовольно заворчал и попытался спрятать голову под подушку, надеясь, что это наглое вторжение в ночной покой – просто ошибка диспетчера; но телефон не умолкал и продолжал заливаться истерической трелью. Стало быть, звонили из клиники, и там случилось что-то экстраординарное, поскольку беспокоить патрона в нерабочие часы строжайше запрещалось всем… Исключения делались лишь в единичных случаях, когда речь шла о прямой угрозе жизни пациента – и невозможности дежурного врача справиться с этой ситуацией самостоятельно.
«Вишенкой на торте» стал раздраженный голос супруги, донесшийся из соседней комнаты:
– Эмиль, ради всего святого, сними уже трубку и уйми своих бездарных идиотов, неспособных дать очередному психу успокоительное или поставить клизму!..
– Да, дорогая… – сухо ответил Шаффхаузен, и в очередной раз спросил себя – стоила ли клиника «Сан-Вивиан», фактически перешедшая к нему по наследству от компаньона, удушающей обузы в виде Жанны, полученной «в нагрузку» (женитьба на вдове была условием sine qua non для вступления в права)? Но, пожалуй, все-таки стоила…
Эмиль вздохнул, зажег настольную лампу и, кое-как нащупав трубку, наконец, ответил на звонок:
– Шаффхаузен, слушаю…
– Патрон, простите… – из телефонной мембраны донесся чуть задыхающийся голос Жана Дюваля, ассистента и с некоторых пор – заместителя Шаффхаузена по всем основным вопросам, связанным с лечением пациентов. – Простите, что беспокою вас так поздно… или, скорее, рано… но у нас тут… ээээ… кое-что произошло… и боюсь, нам не обойтись без вашего участия.
– Говорите внятно и коротко, мсье Дюваль! – рассердился Шаффхаузен, сел на кровати, надел очки и поудобнее перехватил трубку. – Что у вас произошло? Пациент из четырнадцатого номера все-таки обернулся носферату, как и обещал при поступлении?
– Н-нет… хотя в этом случае я вряд ли решился бы вас п-потревожить, п-профессор… – Дюваль от волнения начал запинаться и снова перевел дыхание – со свистом, как будто боролся с приступом астмы. – Это… это насчет другого вашего п-пациента… бывшего…
– Которого же, черт вас подери? – раздраженно бросил Шаффхаузен, когда мгновенное озарение дало ему ясную подсказку. – Неужели опять Верней?.. Что с ним на сей раз приключилось, если он явился в клинику посреди ночи?
– Ви… ви… виконт не явился, – голос Жана стал совсем сиплым, и было что-то кошмарное в его отчаянных попытках соблюсти церемониал вежливости и нейтрального принятия. – Ох, нет!.. Слава Богу, нет… но… он вам звонит… то есть, звонит сюда, в к-клинику… кричит, что п-потерял ваш личный телефон, а в с-с-справочнике его нет, и т-т-требует, чтобы его с вами немедленно с-соединили.
Эмиль устало вздохнул и хотел было самым невежливым образом прервать разговор с Дювалем, послав его к дьяволу вместе с неугомонным Вернеем, вечно путающим день и ночь, подобно тому самому носферату, но… но почему-то его рука продолжала прижимать трубку к уху. Доктор колебался между желанием вернуться ко сну и любопытством узнать, что за новая страсть так захватила художника и заставила искать немедленного разговора с ним…
«Или дело безотлагательное по причине кризисного состояния старшего Сен-Бриза? Неужели попытка суицида?.. У них ведь это фамильное…»
Отец Эрнеста совсем недавно покинул стены «Сан-Вивиан», едва ли до конца оправившись после трагической утраты второй супруги и двух юных дочерей. Вспомнив об этом, Эмиль нахмурился: такая причина позднего звонка была более, чем вероятной, но сбивчивое объяснение Дюваля вновь поселило в нем сомнения:
– П-патрон, мне кажется, он совершенно п-пьян… и самое неп-приятное, он грозится, в случае вашего отказа п-поговорить с ним, п-позвонить в «Фигаро», и в «П-пари Матч», и еще… почему-то в «П-п-плейбой», и рассказать им Б-бог знает чт-то… – в голосе Жана мелькнули панические нотки. – А… а вы же знаете, какая у Эрни… ммм… у ви-ви-виконта… б-бурная и… несколько извращенная фантазия!..
– О да… Помнится, я уже нес по ее вине немалые затраты… – тихо, так, чтобы его слова не просочились сквозь тонкую стенку и не пробудили неуместное любопытство супруги, пробормотал Шаффхаузен, потом добавил уже громче, не скрывая нарастающего недовольства:
– Раз мсье Верней решился на шантаж прессой, значит, дело и впрямь безотлагательное! Соедините меня с ним, Жан, и отправляйтесь спать, у нас с вами через четыре часа начало рабочего дня, и я бы предпочел видеть вас хорошо отдохнувшим…
– П-постараюсь… – вздохнул Дюваль, и по его тону было понятно, что на спокойный отдых после такой адреналиновой встряски он вовсе не рассчитывает.
В трубке зашуршало, защелкало, потом послышалась музыкальная заставка – мини-телефонная станция, установленная в клинике лишь недавно, после щедрого спонсорского взноса, исправно делала свою работу – и через пространство пробился знакомый ироничный голос Эрнеста Вернея:
– Доктор! Я знал, что моя угроза натравить коко19 на ваш заповедный садик для психов сработает! Прошу прощения, что разбудил в неурочный час, но я не мог ждать до утра.
– Да неужели? – скептически вопросил Шаффхаузен, у которого руки зачесались самолично отшлепать этого несносного нарушителя спокойствия и любителя дурных розыгрышей. Но губы его против воли тронула легкая улыбка, однако он сурово одернул сам себя и со вздохом проговорил:
– Рассказывайте, что такого с вами приключилось, отчего вы вдруг ринулись названивать в клинику и шантажировать беднягу Жана и меня нашествием папарацци? Вы снова надумали жениться, и вам срочно необходимо мое заключение психиатра о вашей очередной пассии?
– Ха-ха-ха, док, а вы недалеки от истины! – засмеялся Эрнест. – Заключение психиар-тра… пси-хи-а-тра! мне в самом деле нужжно… но не для того, чтобы жениться, как раз… как раз наоборот!.. Месье! Вы же маг и вош… вошлебник… во-л-бешник… вол-шебник… блядь, мне нельзя столько пить!.. – в голосе художника прозвучало что-то вроде пьяного всхлипа:
– Доктор, пожалуйста. Пожалуйста, сделайте со мной что-нибудь, заколдуйте, или, наоборот, расколдуйте… чтобы мне не лезла в голову… и во все другие места… разнообразная дичь!.. Скажите, на ком я должен жениться, чтобы стать нор-маль-ным?.. Таким, как бедняга Жан – уж не знаю, куда там и что ему вставляет добродетельная жена, если он меня сразу даже не узнал!.. Вот, блядь, мне бы так!..
Эмиль немного помолчал, переваривая услышанное, потом сухо спросил:
– Так вы побеспокоили меня среди ночи с тем, чтобы я выступил вашим сватом и узнал у мадам Дюваль, нет ли у нее незамужней младшей сестры?
– Чтооо?.. Нет, нет… черт, меня сейчас стошнит! Младшая сестра мадам Дюваль… вы, конечно, вправе на меня сердиться, дорогой доктор, но… но такой жестокой кары я не заслужил!.. Я… просто не хочу, чтобы наша с вами терапия… после всего, что вы для меня сделали… после всех ваших усилий… пошла в то место, откуда, если верить моему собрату по цеху Гюставу Курбе20, вышел весь наш бренный мир! А, вот… придумал! Вы можете меня заапно… загипоно… ну вы поняли. Загипнозить.
– Вы подразумеваете «загипнотизировать»? – все так же сухо осведомился Эмиль, теперь начавший испытывать раздражение и нечто вроде мигрени от пьяного многословия Вернея. Из потока сознания художника пока не представлялось возможным вычленить суть проблемы, настолько его растревожившей, что он легко нарушил и порядки клиники, и личное пространство врача. Шаффхаузен также отметил свой собственный перенос, не позволявший ему авторитарно прервать разговор и предоставить молодому нахалу самостоятельно разбираться с очередной ветреной любовницей… или любовником.
– Да… загипнотизировать! Во-первых – чтобы я забыл Эррин, потому что она меня бросила, доктор, бросила!.. Проклятая стерва!.. Тому уж почти полгода, а я все еще не могу… не могу ее забыть, и как же меня это заебало!.. Доктор! Не жениховские речи, да?.. Ну и правильно, потому что я никогда больше не женюсь… но моя проблема не в Эррин.
– Послушайте, Эрнест… я слышу по вашему голосу, что вы сильно расстроены чем-то… Если это поможет вам успокоиться – расскажите мне сразу все, как можно скорее, это признание облегчит ваше состояние, я обещаю вам подумать о том, как я смогу помочь, и мы завтра, на свежие головы все обсудим, хорошо? – поняв, что художник сам попросту не справится со своим бурным эмоциональным процессом, Шаффхаузен взялся руководить им, и его спокойный рассудительный, и действительно чуть гипнотизирующий своей интонацией голос немедленно возымел действие.
– Хорошо, месье, хорошо… я вам все расскажу. – голос Эрнеста выровнялся, он как будто сразу протрезвел от этого спокойного предложения врача. – Но сперва вы мне скажите… только отвечайте честно, ладно?.. Вот вы… если бы вы… ну… если бы вам нравились мужчины, как мне… вы могли бы в меня влюбиться? Спать со мной? Проводить со мной ночи?..
«Мадонна… он и правда окончательно рехнулся, бедный мальчик…» – от внезапного вопроса в лоб Шаффхаузена пробил озноб, как если бы холодный мистраль распахнул окно спальни… Но доктор психиатрии, профессор, ученый, автор многочисленных статей и книг, тут же встал во весь рост, прикрывая врачебным авторитетом и неприкосновенностью растерянного мужчину, пропустившего удар в самое сердце:
– Если сделать подобное гипотетическое допущение, вспомнить древних греков с их традиционным для закрытых мужских сообществ ухаживанием зрелого эраста за юным эроменом, то… не вижу в этом вопросе никаких препятствий, кроме разве что скрытого и вытесненного вами инцестуозного влечения к отцу, о котором мы с вами неоднократно вели занимательные разговоры. Вы ведь помните, что разница в возрасте любовников, будь они одного пола или разного, всегда дает прямое указание на поиск этой запретной связи…
– Хм… ну то есть это было такое сложносочиненное «да»? Нет, нет, не бойтесь, доктор, я еще не сошел с ума… пока… и не покушаюсь на вашу невинность. Просто хочу понять… какого черта он строит из себя немощного старика, в коем все чувства охладели, и ему нужно не встречаться с молодыми горячими парнями, а место на кладбище выбирать, да и то в очках… блядь, доктор, ну что это за адская хуйня?! Вы ведь с ним одногодки, и вы-то – к счастью – еще полны огня и задора!.. Только прикидываетесь сухарем, но я-то помню, как вы молодели на глазах, когда мы с вами удили рыбу в заливе Гольф-Жуан… с вашей яхты… ну, а он зачем строит из себя развалину?..
Шаффхаузен приложил холодную ладонь к запылавшему лбу, силясь постичь, о ком Эрнест ведет свои пламенные речи, приправленные жгучей обидой отвергнутого любовника? Сперва он решил, что сын сокрушается об отце, впавшем в затяжную депрессию и отказавшемся от предлагаемых ему Эрнестом радикальных или эпатажных способов отвлечься от своего горя… но… но граф был на добрый десяток лет моложе Эмиля. Художник же уверенно говорил о ком-то одного с ним возраста, о ком-то, с кем у Вернея мог завязаться (или уже завязался?) внезапный роман, не получивший, однако, желанного продолжения… и удовлетворения.
– Так, Эрнест, друг мой, вы обещали рассказать мне о вашей проблеме, и я вас услышал. Но предпочту перепроверить, верно ли уловил ее суть? Я понял, что вы расстались с вашей русалкой?
– Эльфийкой.
– Ну, пусть эльфийкой… суть ведь не в этом, да? Потом познакомились с мужчиной, годящимся вам в отцы, и ожидали, что ваши отношения будут развиваться определенным образом, но так и не дождались… И отказ вашего нового друга от… ммм… интимной связи вас настолько огорчил, что вы решили немедленно обратиться ко мне за консультацией по данному вопросу, так?
– Почти… черт, месье Шаффхаузен, вы всегда были ясновидящим!.. Вы ведь колдун, да? Ваше настоящее имя Мерлин?.. Или Мессинг… но вы не все угадали…
– Дорогой мой, я ведь не претендую на лавры графа Калиостро… я только пересказал вам то, что вы…
– Ха-ха-ха… как вы сказали?! Калиостро?.. Это просто грандиозно, месье, и вы еще говорите, что не ясновидящий! Я ведь вам не рассказывал еще, что буду работать художником на съемках нового фильма как раз про Калиостро!.. А знаете, кто играет главную роль?.. Ну же, подумайте! И вы все поймете до конца…
Шаффхаузен знал, он читал в «Утренней Ницце» заметку о начале съемок совместного франко-немецко-швейцарского телесериала по мотивам знаменитого романа Дюма, и обратил внимание, что режиссером выступает Андре Юнебелль, а на главную роль мага и авантюриста Калиостро приглашен не кто иной, как Жан Марэ…
– Нет, Эрнест… не может быть… Вы все-таки заполучили вашего светозарного Феба… но божество вдруг предстало перед вами слишком… человеком? Вы расстроены тем, что ваш кумир отвергает вас?
– Он… он не отвергает меня, месье Шаффхаузен! Не отвергает, в том-то и дело… Если бы он меня отверг – я бы это понял и принял, и не стал бы вас выдергивать из постели посреди ночи, и вешать на вас пьяные сопли… Кто я такой, рядом с ним, в конце концов? «Червяк, в звезду влюбленный!» Нет, доктор, все гораздо хуже! Он тоже в меня влюблен! Влюблен до безумия, я это знаю, вижу, чувствую… да – он сам мне об этом сказал, не далее, как пару часов назад… но он с чего-то решил, что стар для меня! И… и… нет, вы только послушайте, он «боится оскорбить мою сияющую молодость!» Своим роскошным телом, он, вероятно, ее оскорбит, идиот! О, никогда еще я так не проклинал свою, блядь, «сияющую молодость» и – как это он сказал?.. – «ангельскую красу!» – как после сегодняшнего ужина в ресторане возле Лувра!.. Вот… вот… я и решил узнать, решились бы ВЫ оскорбить мою сияющую молодость, окажись вы на его месте… и вы сказали, что ДА!
– Эрнест, Эрнест, ради бога, не кричите… иначе проснутся даже попугаи в оранжерее клиники, а не только таксы и моя супруга… – Шаффхаузен зажал низ трубки ладонью, словно бездушная мембрана была ртом художника, со всем пылом отвергнутого любовника выплескивающего в эфир свою боль и досаду… – Я вас услышал… и понял. Этого достаточно… успокойтесь… подышите… помните, как я вас учил? Глубокий вдох… задержка и выдох… на счет… А пока вы там дышите, просто послушайте меня, не перебивая… Договорились?
Из трубки донесся сперва судорожный вдох, потом долгий выдох на грани стона, и Верней пробормотал уже намного тише:
– Да. Да, доктор, договорились.
– Вот и славно. – тут Эмиль сам замолчал, собираясь с мыслями. Ему уже не в первый раз приходилось брать на себя неблагодарную роль священника, принимающего исповедь Эрнеста, и подбирать нужные и точные слова в ответ на обращенную к нему мольбу… К тому же, он ничего не мог поделать с тем, что всякий раз позволял себе вовлечься в отношения переноса и стать на время добрым и мудрым отцом для буйного юноши, отодвинув на второй план сурового доктора. Он корил себя за подобное нарушение профессиональной этики и кодекса психоаналитика, но не мог совладать с желанием стать для Эрнеста Вернея кем-то более значимым, чем просто лечащий врач. Ни один другой пациент не вызывал в нем столь явного и не подконтрольного воле и разуму прилива отеческих чувств… А теперь, после того, что он услышал, к этим чувствам примешалась еще и ревность… но Эмиль решил, что с собственными переживаниями разберется утром.
– Послушайте меня, мой мальчик, послушайте и поступите разумно, насколько это будет вам по силам… Вы и правда не представляете себе, как ваша красота может действовать на других людей, вы живете так, словно не замечаете этого… и напрасно. Мсье Марэ – актер, он обладает тонкой душевной организацией, и, надо полагать, видит не только глазами, но его собственные глаза не могут смириться с тем, что его собственные молодость и красота угасают. Поверьте, Эрнест, это переживание может быть мучительно, особенно когда рядом появляется кто-то, как вы. Притягательный и прекрасный. Будь мсье Марэ алчен, жаден, он и минуты не раздумывал бы, едва ему представился хоть малый шанс воспользоваться вашим согласием разделить с ним ложе. – Шаффхаузен сам удивился своей пафосной серьезности, однако она не казалась ему преувеличенной, когда речь шла о его… воспитаннике, названном сыне?..
– О, многие сильные мира сего в поисках личного бессмертия выпивали чужую молодость, питались юными телами и душами, насыщались плотью в погоне за ускользающей с их лиц свежестью… но от смерти еще никому из них скрыться не удалось. И знаете, Эрнест, я понимаю сдержанность вашего Феба – ведь больше чем наслаждения, он боится опалить ваши крылья, растопить воск, скрепляющий их, разрушить ваш полет21… Отсюда и его отказ, его жертва, что так огорчила вас… Понимаете ли вы теперь, мой мальчик, что в его поступке нет отвержения, что это только благой способ защитить вас от самого себя, а себя – от вас? Ведь сам бог Солнца, погубив Фаэтона, впал в скорбь и скрыл свой лик от мира22…
14
Премьера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы состоялась 24 марта 1972 года.
15
Пьер Оверне – рабочий, представитель леворадикальной группировки «Пролетарская левая». Убит охранником во время волнений на заводе «Рено». Похороны Оверне 4 марта 1972 г. собрали большое количество народа. В траурной демонстрации приняли участие 200 тысяч человек, процессия растянулась на 7 километров. Рядом с гробом 23-летнего Оверне шел пожилой мэтр философии Жан-Поль Сартр, а в рядах демонстрантов присутствовал другой известный философ Мишель Фуко.
16
Подразумевается Жан Кокто – покровитель, друг и многолетний любовник Марэ, скончавшийся в 1963 году. Поэт, писатель, художник, философ, он фактически воспитал Марэ, сформировал его личность, привил вкус и создал из неотесанного парня великого актера. «Он родился красавцем от красивой матери, – писал впоследствии Кокто, – и ему требовалась соответствующая душа, чтобы носить этот прекрасный костюм. Все свои силы я вкладывал в то, чтобы развить в нем его лучшие природные задатки – благородство, мужество, щедрость души. В его сердце светит солнце, в его душе горит огонь».
17
Жорж Райх – американский балетный танцовщик, одно время выступавший в «Лидо», любовник Жана Марэ, состоявший с ним в отношениях с 1948 по 1959 годы.
18
77 зал галереи Денон – ныне 70-й зал Лувра, неподалеку от лестницы Дарю. В этом зале собраны шедевры французского романтизма, в том числе работы Делакруа, и любимая картина Эрнеста – «Свобода, ведущая народ».
19
Коко – жаргонное прозвище журналистов-репортеров
20
Гюстав Курбе – французский художник-экспрессионист. Подразумевается его скандальная картина «Происхождение мира», с натуралистическим изображением вагины.
21
Шаффхаузен ссылается на древнегреческий миф про Икара – сына мастера Дедала, которому отец сделал крылья, чтобы сбежать с ним вместе с острова Крит. Икар пренебрег предостережением отца и поднялся слишком высоко в небо, туда, где проезжал на своей огненной колеснице бог Феб (Солнце). Огонь опалил крылья Икара, растопил воск, скрепляющий оперение, и юноша упал в воды Эгейского моря и погиб.
22
А это уже другой миф – про Фаэтона, сына Феба (Гелиоса), у которого юноша выпросил однажды его колесницу. Не справившись с четверкой коней, влекущих по небу солнечный диск, Фаэтон погибает, и безутешный его гибелью, отец-Гелиос надолго скрывает свой лик от мира.