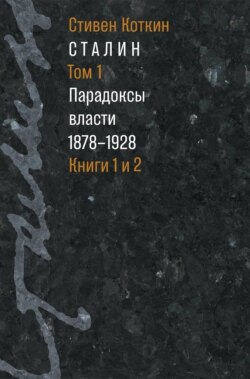Читать книгу Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2 - Стивен Коткин - Страница 11
Часть I
Двуглавый орел
Глава 2
Ученик Ладо
Политики-семинаристы
Оглавление«Когда он чему-нибудь радовался, – вспоминал о Джугашвили Петр Капанадзе, который одно время был одним из самых близких к нему одноклассников, – то щелкал средним и большим пальцем, кричал звонким голосом и вертелся на одной ноге» [132]. Осенью на третий год обучения (в 1896 году), когда успеваемость Джугашвили начала ухудшаться, он вступил в подпольный «кружок» семинаристов, возглавлявшийся старшеклассником Сеидом Девдариани. Заговорщикам, возможно, отчасти помогла случайность: наряду с другими семинаристами, отличавшимися слабым здоровьем, Джугашвили был переведен из главного дортуара в отдельное помещение, где он, судя по всему, и встречался с Девдариани [133]. В их группе насчитывалось около десяти человек, включая нескольких из Гори, и они читали такую нерелигиозную литературу, как беллетристика и книги по естественным наукам – не запрещенные русскими властями, но запрещенные в семинарии, где не проходили ни Толстого, ни Лермонтова, ни Чехова, ни Гоголя, ни даже произведения Достоевского с его мессианским духом [134]. Ребята доставали светские книги в так называемой Дешевой библиотеке, которую содержало Общество Чавчавадзе по распространению грамотности, и в букинистическом магазине у хозяина-грузина. Кроме того, Джугашвили покупал такие книги в лавке в Гори, принадлежавшей одному из членов общества Чавчавадзе. (Как вспоминал книготорговец, будущий Сталин «много шутил и рассказывал смешные истории из семинарской жизни» [135].) Как почти в каждом учебном заведении Российской империи, ученики-заговорщики тайком проносили книги в семинарию, читая их по ночам, а днем пряча. В ноябре 1896 года инспектор семинарии отобрал у Джугашвили перевод «Тружеников моря» Виктора Гюго после того, как уже застал его за чтением романа того же автора «Девяносто третий год» (посвященного контрреволюции во Франции). Помимо этого, Джугашвили читал Золя, Бальзака и Теккерея в русском переводе, а также бесчисленные произведения грузинских авторов. В марте 1897 года он снова был пойман с контрабандной книгой: переводом работы французского дарвиниста, противоречившей православной теологии [136].
Монахи в семинарии, в отличие от большинства православных священников, соблюдали целибат, не ели мяса и постоянно молились, стремясь избежать искушений мира сего. Но вне зависимости от их личных жертв, преданности своему делу или научных степеней, в глазах грузинских семинаристов все они были «деспоты, капризные эгоисты, думающие только о собственных перспективах», и особенно о том, как стать епископами (статус которых в православной традиции близок к апостольскому). В свою очередь, Джугашвили, разумеется, сам по себе вполне мог лишиться интереса к религии, но семинарская политика и поведение монахов ускорили его разочарование, в то же время придав определенную решимость его бунтарству. Его как будто бы отличал только что назначенный новый инспектор семинарии, иеромонах Дмитрий, которому учащиеся дали презрительную кличку «Черное пятно». До того как стать инспектором (в 1898 году), одетый в черную рясу толстяк Дмитрий преподавал в семинарии Закон божий (с 1896 года). Несмотря на то что в миру он был грузинским дворянином, носившим имя Давид Абашидзе (1867–1943), он проявил себя еще большим ненавистником всего грузинского, чем зараженные шовинизмом русские монахи. Когда Абашидзе призвал Джугашвили к ответу за то, что тот держал у себя запрещенные книги, последний подверг критике слежку за учащимися семинарии, обозвал инспектора Черным пятном и получил за это пять часов в темном карцере [137]. Впоследствии, в годы своей диктатуры, Сталин выразительно описывал жизнь в семинарии, где процветали «шпионаж, залезание в душу, издевательство». «…в 9 часов звонок к чаю, – объяснял он, – уходим в столовую, а когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики» [138].
Это отчуждение происходило постепенно и не стало полным, но все же семинария, в которую Джугашвили так стремился поступить, отталкивала его от себя. Нелегальный читательский кружок, в который он вступил, поначалу не ставил перед собой никаких революционных целей. Однако вместо того, чтобы примириться с интересом студентов к тому, что как-никак представляло собой лучшие образцы художественной литературы и современной науки, и контролировать этот интерес, богословы ответили запретами и гонениями, как будто им было чего бояться. Иными словами, радикализм среди учащихся насаждался не столько их кружком, сколько самой семинарией, хотя и неумышленно. Троцкий в своей биографии Сталина красочно описывал русские семинарии, которые «славились ужасающей дикостью нравов, средневековой педагогикой и кулачным правом» [139]. Сказано вполне верно, но слишком легковесно. Многие, а может быть, и большинство выпускников русских православных семинарий становились священниками. И хотя из стен Тифлисской семинарии действительно вышли почти все главные светила грузинской социал-демократии – подобно тому, как многие радикальные члены Еврейского рабочего союза (Бунда) были выпускниками прославленного раввинского училища и учительской семинарии в Вильно, – отчасти так было потому, что подобные заведения давали образование и серьезную дозу самодисциплины [140]. Много семинаристов было в рядах ученых Российской империи (в их число входил, например, физиолог Иван Павлов, прославившийся изучением рефлексов у собак); кроме того, учеными становились дети и внуки священников (например, Дмитрий Менделеев, создатель периодической таблицы). Потомство и ученики православного духовенства составляли большую часть интеллигенции по всей Российской империи. Духовенство насаждало ценности, остававшиеся с их детьми и учениками даже после их обмирщения, а именно трудолюбие, уважение к бедности, самоотверженность, и в первую очередь чувство нравственного превосходства [141].
Даже если Джугашвили находил противоречия в Библии, увлекался переводом «Жизни Иисуса» Эрнеста Ренана и не пожелал становиться священником, все это не означало, что он автоматически пойдет в революционеры. Революция не являлась выбором по умолчанию. Требовался еще один серьезный толчок. В случае Джугашвили им стали летние каникулы 1897 года, проведенные им в родном селе его близкого друга Михаила (Михо) Давиташвили, «где он познакомился с крестьянской жизнью» [142]. В Грузии, как и по всей Российской империи, ущербное освобождение крепостных мало чем помогло крестьянам, оказавшимся между молотом «выкупных» платежей за землю, предназначенных для их бывших хозяев, и наковальней потерявших всякий страх бандитов, спускавшихся с неприступных гор и вымогавших дань [143]. Освобождение крестьян в реальности стало «освобождением» для дворянских детей: оставшись без крепостных, они перебирались из поместий в города и вместе с крестьянской молодежью становились борцами за дело крестьянства [144]. Пробуждение грузина в Джугашвили привело его к осознанию угнетения грузинских крестьян грузинскими помещиками: мальчик, возможно, прежде желавший стать монахом, теперь хотел «стать сельским писцом» или старостой [145]. Но его чувство социальной несправедливости оказалось связано с его лидерскими амбициями. В подпольном кружке в стенах семинарии Джугашвили и его старший товарищ Девдариани не только были закадычными друзьями, но и состязались за роль вожака [146]. В мае 1898 года, когда Девдариани окончил семинарию и уехал в Дерптский (Юрьевский) университет в одной из прибалтийских губерний Российской империи, Джугашвили добился желаемого, став во главе кружка и придав его деятельности более практическую (политическую) направленность [147].
Как вспоминал Иосиф Иремашвили – еще один горийский Сосо, учившийся в семинарии, – «в детстве и юности он [Джугашвили] был хорошим другом, пока ты подчинялся его властной воле» [148]. И все же именно в то время у «властного» Джугашвили появился наставник, повлиявший на становление его личности – Ладо Кецховели. Ладо, будучи в 1893 году исключенным из семинарии за руководство забастовкой учеников, провел лето в качестве репортера газеты Чавчавадзе «Иверия», освещавшего тяжелую пореформенную жизнь крестьянства в своем родном Горийском уезде; после этого в соответствии с правилами Ладо получил право на продолжение обучения в другой семинарии, чем он и воспользовался, поступив в сентябре 1894 года в Киевскую семинарию. Однако в 1896 году он был исключен и оттуда после ареста за хранение «криминальной» литературы и был сослан под надзор полиции в свою родную деревню. Осенью 1897 года Ладо вернулся в Тифлис, присоединился к группе грузинских марксистов и поступил на работу в типографию, желая обучиться ремеслу печатника с тем, чтобы в дальнейшем издавать революционные листовки [149]. Кроме того, он восстановил связи с тифлисскими семинаристами. Кецховели пользовался среди них признанным авторитетом: его фотография висела на стене в комнате семинариста Джугашвили (вместе со снимками Михо Давиташвили и Пети Капанадзе) [150]. Несмотря на то что в Дешевой библиотеке Общества Чавчавадзе по распространению грамотности, возможно, и нашлось бы несколько марксистских текстов, включая, может быть, и работу самого Маркса («К критике политической экономии», первый из трехтомов «Капитала»), читающему Тифлису было далеко до Варшавы [151]. За начавшимся в 1898 году поворотом Сталина от типичной ориентации на социальную справедливость, известной как народничество, к марксизму в первую очередь стоял Ладо [152].
132
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 665. Л. 90 (Капанадзе).
133
Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 125 (ссылка на ГФ ИМЛ. Ф. 8. Оп. 2. Ч. 1. Д. 12. Л. 176: Девдариани); РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 665. Л. 128 (Паркадзе); Stalin und die Tragodie, 17. Иремашвили тоже входил в кружок Девдариани. Тот, ставший философом, был расстрелян в 1937 г. людьми Берии. Его рукопись «История грузинской мысли», судя по всему, пропала: Rayfield, Stalin and His Hangmen, 49.
134
Iremashvili, Stalin und die Tragodie, 16–7. См. также: Education in Russia, 286–8.
135
De Lon, “Stalin and Social Democracy,” 170. Софрон Мгалоблишвили, выпускник Тифлисской семинарии, вернувшийся в 1870-е гг. в Гори, привез с собой запас книг на грузинском, de facto став хозяином библиотеки. Впоследствии он стал одним из основателей народнического кружка, в который в конце концов проникли полицейские осведомители; в 1878 г. члены кружка были арестованы. (Что не менее существенно, они на своем опыте выяснили, что крестьяне остаются глухи к агитации, исходящей от горожан): Мгалоблишвили. Воспоминания. С. 120. Кроме того, в Гори полиция разгромила и «военно-конспиративную организацию», поддерживавшую слабые связи с петербургскими народовольцами. Меньше привлекавший к себе внимание «кружок семинаристов», вдохновлявшийся примером «Земли и воли», просуществовал до 1890-х гг. В число его членов входили дети городских дворян и юноша крестьянского происхождения, Арсен Каланадзе, содержавший книжную лавку, двери которой были открыты для учеников церковно-приходской школы и семинарий: Г. Глурджидзе. Памятные годы. С. 18.
136
Каминский, Верещагин. Детство и юность вождя. С. 71.
137
Осенью 1898 г. инспектор Абашидзе записал: «Джугашвили Иосиф во время совершения членами инспекции обыска у некоторых учеников пятого класса, несколько раз пускался в объяснения с членами инспекции, выражая в своих заявлениях недовольство… обысками…»: Каминский, Верещагин. Детство и юность вождя. С. 65, 84. См. также: Неопубликованные материалы из биографии тов. Сталина, в: Антирелигиозник (Размадзе).
138
Из беседы; перепечатано (с дальнейшей редакторской правкой) в: Сталин. Сочинения. Т. 13. С. 104–123 (на с. 114). Об обысках см. также: Глурджидзе. Памятные годы. С. 20; Каминский, Верещагин. Детство и юность вождя. С. 66 (Вано Кецховели).
139
Троцкий. Сталин. Т. 1. С. 34.
140
Jones, Socialism, 51, 309, n11. См. также: Челидзе. Из революционного прошлого.
141
Manchester, Holy Fathers. Дети священников (поповичи) составляли 1 % всего населения империи.
142
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 273. Л. 185; Rieber, “Stalin as Georgian,” 34. Впоследствии Давиташвили эмигрировал в Лейпциг.
143
Утверждается, что в Гори Тарасей Мгалоблишвили организовал отряды ополчения для защиты крестьян: Мгалоблишвили. Воспоминания. С. 35–36, 37–39.
144
Jones, Socialism, 22–6.
145
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 273. Л. 201–202 (Елисабедашвили). Юный Сталин летом 1898 г. помогал Елисабедашвили готовиться к экзаменам.
146
В воспоминаниях сталинской эпохи Сталину приписывается роль Девдариани и наоборот: Неопубликованные материалы из биографии тов. Сталина, в: Антирелигиозник (Размадзе).
147
Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 139 (ссылка на ГФ ИМЛ. Ф. 8. Оп. 2. Ч. 1. Д. 12. Л. 181: С. Девдариани); РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 665; Iremashvili, Stalin und die Tragodie, 21.
148
Iremashvili, Stalin und die Tragodie, 5–6.
149
Возможно, Ладо попал в «Третью группу» благодаря Александру Цулукидзе, вступившему в нее в 1895 г.: Берия, Бройдо. Ладо Кецховели. С. 9–10; Хачапуридзе. Грузия во второй половине XIX века. С. 66; В. Кецховели. Друзья и соратники товарища Сталина. С. 75–86.
150
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 272. Л. 67.
151
Каталог Тифлисской дешевой библиотеки. С. 15, 17. См. также: РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 273. Л. 179 (Игнатий Ноношвили).
152
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 273. Л. 85 (Паркадзе); Уратадзе. Воспоминания. С. 15. О том, как Ладо ввел Сталина в подпольные круги, см.: Tucker, Stalin as Revolutionary, 89–90.