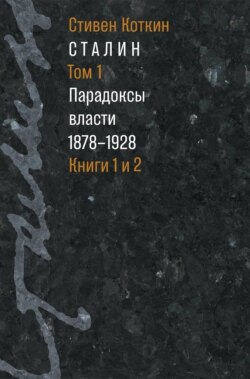Читать книгу Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2 - Стивен Коткин - Страница 8
Часть I
Двуглавый орел
Глава 1
Сын империи
Вера в бога
ОглавлениеВ 1890/1891 учебном году Сосо был вынужден остаться в классе на второй год из-за происшествия с фаэтоном, но он принялся за занятия с еще большим упорством. Те, кто знал его, вспоминали, будто бы он никогда не опаздывал на уроки и все свое свободное время проводил за книгой – и эти утверждения производят впечатление правды [98]. «Это был очень способный мальчик, неизменно шедший первым учеником в своем классе», – вспоминал его бывший школьный товарищ, добавляя, что «Первым он был и во всех играх и развлечениях». По воспоминаниям некоторых одноклассников, Сосо возмущался, когда мальчиков-грузин ставили в угол в наказание за то, что они разговаривали на родном языке; другие вспоминали, что он не боялся просить учителей, носивших впечатляющие форменные мундиры с золотыми пуговицами, за других учеников. Если Сосо действительно заступался перед учителями за учеников, то, вероятно, потому, что учитель русского языка – носивший кличку «жандарм» – выбрал его в качестве старосты класса, обязанного следить за дисциплиной. Но какую бы роль он ни играл в качестве посредника, все учителя, включая и грузинских, ценили усердие Сосо и готовность отвечать у доски [99]. Он пел русские и грузинские народные песни, романсы Чайковского, изучал церковнославянский и греческий языки, и его выбирали читать литургию и петь псалмы в церкви. Он получил от училища награду: псалтырь с надписью «Иосифу Джугашвили <…> за превосходные успехи, примерное поведение и превосходное чтение псалтыря» [100]. Один его одноклассник с восхищением вспоминал, как Сосо и другие хористы «в своих стихарях, коленопреклоненные, с поднятыми лицами поют ангельскими голосами вечерню перед другими мальчиками, распростертыми в неземном экстазе» [101].
Во всем этом присутствовала и прозаическая сторона: ради того, чтобы свести концы с концами, Кеке убиралась в училище (за 10 рублей в месяц). Возможно, что она также работала прислугой в доме у директора училища, хотя в какой-то момент получила постоянное место швеи в местной «модной» лавке и, наконец, перебралась с сыном в квартиру на Соборной улице в Гори [102]. Однако вскоре Сосо за успехи в учебе был освобожден от платы за обучение и даже стал получать ежемесячную стипендию в 3 рубля, впоследствии возросшую до 3 рублей 50 копеек, а затем и до 7 рублей. Возможно, это лучшее доказательство того, что мальчик из распавшейся семьи выделялся как один из лучших учеников в Гори [103]. Окончив школу весной 1894 года, в солидном возрасте в 15 с половиной лет, он мог бы поступить в Горийскую учительскую семинарию, что стало бы еще одним шагом вверх по социальной лестнице. Появился и еще более привлекательный вариант: учитель пения Симон Гогличидзе, переводившийся в Тифлисскую учительскую семинарию имени царя Александра, пообещал, что может устроить своего лучшего горийского ученика на заветное полностью оплачиваемое место в государственном учебном заведении. Это было очень заманчивое предложение в глазах малоимущей семьи. Но вместо этого Сосо сдал вступительные экзамены в Тифлисскую духовную семинарию, решив стать священником. Он получил отличные оценки почти по всем экзаменам – на знание Библии, по церковнославянскому, по русскому, на знание катехизиса, по греческому, по географии, по чистописанию (хотя и не по арифметике) – и был зачислен в семинарию. Сбывались его мечты. Тифлисская семинария – наряду со светскими гимназиями этого города для мальчиков и девочек из зажиточных семей – представляла собой высшую ступень образовательной лестницы на Кавказе, где власти Российской империи не пожелали создавать университет. Шестигодичное обучение в семинарии (куда обычно поступали в 14-летнем возрасте) как минимум давало возможность получить место приходского священника или деревенского учителя в сельской Грузии, но для более амбициозных учеников семинария могла послужить трамплином для поступления в один из университетов империи.
В рамках биографического жанра как такового троп несчастного детства – итог увлечения фрейдизмом – стал играть чрезмерно большую роль [104]. Это слишком простой путь, даже в тех случаях, когда речь идет о персонажах, у которых было действительно несчастливое детство. Детские годы будущего Сталина, безусловно, выдались непростыми: болезни и несчастные случаи, вынужденные переезды, стесненные обстоятельства, разорившийся отец, любящая, но суровая мать, про которую ходили слухи, что она шлюха. Но во взрослом возрасте, несмотря на пристрастие диктатора к проявлениям бурного негодования, решившим участь большинства его коллег по революции, он не выражал особого гнева по отношению к своим родителям или к детским невзгодам. Будущий кремлевский вождь не сталкивался с теми придворными кровавыми интригами, среди которых проходило детство Ивана Грозного или Петра Великого (с которыми его часто будут сравнивать). Отец Ивана умер от фурункула, когда мальчику было три года; его мать была убита, когда ему шел восьмой год. Осиротевший царь Иван Грозный по милости своих регентов был вынужден выпрашивать еду, в то время как у него на глазах шла кровопролитная борьба за власть между элитами, выступающими от его имени, и это вызвало у него страх перед грозившей ему самому гибелью от рук убийц. Молодой Иван пристрастился отрывать крылья у птиц и выбрасывать из окон кошек и собак. Отец Петра Великого умер, когда ему было четыре года. Впоследствии жизни мальчика угрожали различные придворные группировки, связанные с двумя вдовами его отца. После того как Петра в 10-летнем возрасте провозгласили царем, проигравшая группировка подняла бунт, и маленький Петр видел, как родичей и друзей его матери бросали на копья. Вообще говоря, некоторые авторы преувеличивают ужасы, пережитые Иваном и Петром в детстве, предлагая псевдопсихологические объяснения жестокостей их правления. И все-таки в отношении малолетнего Джугашвили можно сказать лишь то, что, возможно, однажды в его присутствии отец бросился на мать с ножом.
Стоит ли сравнивать детские испытания будущего Сталина с тем, что пережили Иван и Петр? Можно сослаться еще на первые годы жизни Сергея Кострикова, впоследствии получившего известность под революционным псевдонимом Киров и ставшего лучшим другом Сталина. Киров, родившийся в 1886 году в маленьком городке Вятской губернии в Центральной России, впоследствии считался одним из самых популярных сталинских партийных вождей. Но у него было трудное детство: четверо из остальных семерых детей его родителей умерло в младенчестве, его отец был пьяницей, бросившим семью, а мать умерла от туберкулеза, когда мальчику было всего семь лет. Киров вырос в сиротском приюте [105]. Аналогичная участь выпала на долю еще одной ключевой фигуры из ближайшего окружения Сталина, Григория (Серго) Орджоникидзе, который еще в младенчестве остался без матери, а в 10-летнем возрасте – без отца. Напротив, у юного Сталина были любящая мать и ряд важных наставников, о чем свидетельствуют поразительно многочисленные мемуары, посвященные той эпохе. Поблизости жила большая семья Кеке, включая ее брата Гио и его детей (другой брат Кеке, Сандала, погибнет от рук царской полиции). А семья Бесо (дети его сестры) не порывала с Кеке даже после того, как Бесо в 1890 году проиграл в споре по поводу опеки над сыном [106]. Семья скрепляла грузинское общество, а Сосо Джугашвили жил в окружении не только собственной многочисленной родни, но и суррогатной родни в лице семейства Эгнаташвили (а также Давришеви). Жители маленького Гори заботились друг о друге, образуя сплоченное сообщество.
Помимо большой семьи и обучения в Гори (служившего билетом наверх), те невзгоды, которые в детстве выпали будущему Сталину, искупал еще один важный момент: вера в Бога. Обездоленной семье Сталина нужно было как-то изыскать серьезные деньги для оплаты обучения в семинарии (40 рублей в год), а также оплаты проживания и стола (100 рублей) и покупки стихаря, служившего формой для семинаристов. 16-летний Джугашвили подал прошение о получении стипендии и получил ее в частичном виде: ему предоставили бесплатное проживание и питание [107]. В поисках денег на оплату обучения Кеке обратилась к приемному отцу Сосо, Кобе Эгнаташвили. У Кобы-большого имелись средства для того, чтобы отправить двух своих выживших родных сыновей в московскую гимназию, и он заплатил и за Кобу-маленького (Сосо). Но если бы Сосо лишился спонсора в лице состоятельного Эгнаташвили и не нашел бы себе другого или если бы ректор семинарии, русский по национальности, лишил Джугашвили частичной стипендии, он вряд ли бы смог продолжать учебу. Он пошел на большой риск, не пожелав бесплатно учиться в светской учительской семинарии, куда его предлагал устроить учитель пения Гогличидзе. Причина, должно быть, заключалась в том, что набожной была не только Кеке, но и ее сын. В воспоминаниях, опубликованных в советскую эпоху, было позволено сообщить читателям о том, что «Первые годы учебы в училище он [Сталин] был очень верующим, аккуратно посещал все богослужения, был заправилой в церковном хоре <…> Он не только выполнял религиозные обряды, но всегда и нам напоминал об их соблюдении» [108]. Будущий Сталин, учившийся в семинарии среди монахов, возможно, подумывал о том, чтобы самому стать монахом. Но изменения, постигшие Российскую империю и весь мир, открыли перед ним совершенно иной путь [109].
98
Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 96 (ссылка на: ГФ ИМЛ. Ф. 8. Оп. 2. Ч. 1. Д. 1. Л. 228–229, 236–239: Петр Адамишвили).
99
Каминский, Верещагин. Детство и юность вождя. С. 36 (Елисабедашвили), 41 (Гогличидзе); Неопубликованные материалы из биографии тов. Сталина, в: Антирелигиозник (Хабелашвили). Учителем языка у юного Сталина был Владимир Лавров.
100
Каминский, Верещагин. Детство и юность вождя. С. 41–42; Iremashvili, Stalin und die Tragodie, 7–8.
101
ГФ ИМЛ. Ф. 8. Оп. 2. Ч. 1. Д. 10. Л. 23–47 (Гогличидзе). Д. 54. Л. 202–215 (Котэ Чарквиани); Montefiore, Young Stalin, 43–4.
102
Каминский, Верещагин. Детство и юность вождя. С. 34 (Елисабедашвили).
103
Этот момент фигурирует не только в отечественных мемуарах сталинской эпохи, но и у эмигранта Иремашвили: Iremashvili, Stalin und die Tragodie, 8. См. также: Сулиашвили. Ученические годы. С. 13.
104
Rank, Trauma of Birth; Horney, Neurotic Personality; Horney, Neurosis and Human Growth; Erikson, Young Man Luther; Tucker, “Mistaken Identity”; Tucker, “A Stalin Biography’s Memoir,” 63–81.
105
Товарищ Киров; Кострикова, Кострикова. Это было в Уржуме; Синельников. Киров.
106
Rayfield, Stalin and His Hangmen, 8.
107
Островский. Кто стоял за спиной Сталина? С. 109. В Грузии насчитывалось три семинарии; третья находилась в Кутаиси.
108
Неопубликованные материалы из биографии тов. Сталина, в: Антирелигиозник (Григорий Глурджидзе).
109
Dawrichevy, Ah: ce qu’on, 47, 60. Отец Давришеви, полицмейстер, отправил его в 1-ю классическую гимназию в Тифлисе.