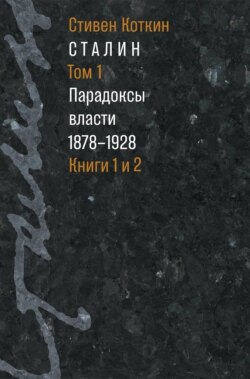Читать книгу Сталин. Том 1. Парадоксы власти. 1878–1928. Книги 1 и 2 - Стивен Коткин - Страница 24
Часть I
Двуглавый орел
Глава 4
Конституционное самодержавие
Выбор геополитической ориентации
ОглавлениеНаряду со всем прочим Столыпину приходилось усердно трудиться, чтобы уберечь Россию от проблем в международных делах. Особенно острыми были трения в отношениях с Великобританией – в то время сильнейшей глобальной державой. Британцы инвестировали четверть капитала своей страны за рубежом, финансируя сооружение железных дорог, портов, рудников и всего что угодно – и все это за пределами Европы. Более того, несмотря на то что Америка и Германия обогнали Великобританию во многих сферах промышленности, британцы все равно держали в своих руках мировые торговые, финансовые и информационные потоки. На океанах, где размер грузовых пароходов вырос с 200 тонн в 1850 году до 7500 тонн в 1900 году, британским было более половины мирового судоходства. В начале XX века две трети подводных кабелей мира принадлежало британцам, что обеспечивало их господство в сфере глобальных коммуникаций. Девять десятых международных трансакций производилось в британских фунтах стерлингов [502]. Казалось, что Россия более чем заинтересована в достижении согласия с британцами, при условии, что этот шаг не приведет к вражде с Германией.
В 1905–1906 годах, после поражения от рук японцев, в России разгорелись энергичные дискуссии в отношении того, что называлось внешнеполитической ориентацией (и что мы бы назвали большой стратегией). Санкт-Петербург в 1892 году уже заключил оборонительный союз с французской Третьей республикой, но Париж ничем не помог России, когда та воевала в Азии. Наоборот, Германия во время трудной Русско-японской войны предлагала России благожелательный нейтралитет, а союзная Германии Австро-Венгрия не стала пользоваться ситуацией для усиления своего влияния в Юго-Восточной Европе. Тем самым открылось пространство для консервативной переориентации с демократической Франции на союз, основанный на «монархическом принципе» – то есть на союз России с Германий и Австро-Венгрией, в чем-то служивший возвращением к старой бисмарковской Лиге трех императоров. Однако против такого варианта единым фронтом выступали российские конституционные демократы – англофилы, желавшие сохранить союз с республиканской Францией и обеспечить сближение с либеральной Британией ради того, чтобы укрепить российскую Думу [503]. В августе 1907 года, всего через два месяца после совершённого Столыпиным конституционного переворота, сузившего думскую избирательную базу, премьер-министр высказался за англо-русское соглашение [504]. Столыпин был более-менее германофилом и не испытывал симпатий к конституционной монархии в британском стиле, но во внешней политике его заклятые враги, конституционные демократы, добились своего, поскольку сближение с Британией представлялось для России наилучшим путем к обеспечению мира, в то же время, как считал Столыпин, не препятствуя и сохранению дружеских отношений с Германией [505]. Это было вполне логично. При этом англо-русское соглашение 1907 года не представляло собой чего-то значительного, сводясь главным образом к разграничению сфер влияния в Иране и Афганистане [506]. Но в отсутствие параллельного договора с Германией, хотя бы на символическом уровне, скромное англо-русское соглашение 1907 года привело к утрате равновесия.
На самом деле Николай II подписал договор с Германией: в 1905 году интриган Вильгельм II во время своего ежегодного летнего круиза, на этот раз проходившего в Балтийском море, 6 июля (19 июля по новому стилю) пригласил Николая II на тайную встречу, и Николай с готовностью принял приглашение. Цель кайзера заключалась в создании континентального блока, выстроенного вокруг Германии. «Никто не имеет ни малейшего представления о встрече, – телеграфировал Вильгельм II на английском, языке, на котором они с царем общались. – Стоит полюбоваться лицами моих гостей, когда они увидят твою яхту. Чудесный жаворонок… Вилли» [507]. Вечером в воскресенье 23 июля он встал на якорь у побережья российской Финляндии (вблизи от Выборга), рядом с яхтой Николая II. На следующий день кайзер предъявил проект короткого тайного соглашения о взаимной обороне, согласно которому Германия и Россия должны были прийти друг другу на помощь в случае войны с третьей страной. Николай понимал, что такой договор с Германией нарушал условия договора с Францией, и настаивал, чтобы с ним сперва был ознакомлен Париж, на что кайзер не соглашался. Тем не менее Николай II все-таки подписал этот так называемый Бьёркский договор. Российский министр иностранных дел, как и Сергей Витте (только что вернувшийся из Портсмута в Нью-Гэмпшире), шокированный этим сюрпризом, требовал, чтобы договор считался недействительным до тех пор, пока его не подпишут и французы. Николай II уступил и 13 ноября (26 ноября по новому стилю) подписал составленное Витте письмо Вильгельму II о том, что вплоть до создания русско-немецко-французского союза Россия будет соблюдать свои обязательства перед Францией. Это привело Вильгельма II в ярость. Германо-русский союз, формально так и не отмененный, был разорван [508].
Это фиаско непреднамеренно повысило значение русско-британского соглашения, на первый взгляд сигнализировавшего о четкой геополитической ориентации России и, соответственно, о поражении консерваторов и германофилов. Более того, с учетом «сердечного согласия», уже заключенного между Великобританией и Францией, российский договор с Великобританией фактически означал создание тройственной Антанты, каждая из участниц которой брала на себя «моральное обязательство» поддерживать прочих в случае войны. А из-за существования Тройственного союза во главе с Германией и с участием Австро-Венгрии и Италии британско-французско-российская Антанта производила впечатление скорее союза, нежели простого соглашения. Дальнейшие события еще сильнее укрепили это ощущение существования двух противостоящих друг другу союзов. В 1908 году Австро-Венгрия аннексировала славянскую провинцию Босния-Герцеговина, отторгнутую у Османской империи, и хотя Босния-Герцеговина еще с 1878 года находилась под австрийской оккупацией, разъяренные российские правые осудили неспособность России оказать решительное противодействие этой формальной аннексии, окрестив эти события «дипломатической Цусимой» (имея в виду печально известное сражение, в ходе которого российский Балтийский флот был потоплен японцами) [509]
502
По французской инициативе в 1865–1871 гг. обсуждались планы по учреждению единого европейского центрального банка и единой валюты, называвшейся «Европа», но британцы и немцы выступили против этих предложений. Вместо этого немцы в 1870-х гг. по примеру британцев перешли на золотой стандарт, к которому присоединились и прочие страны (Япония – в 1897 г.), что обеспечило конвертируемость валют и стабильность обменных курсов: Einaudi, Money and Politics.
503
Jablonowski, “Die Stellungnahme der russischen Parteien,” 5: 60–93.
504
Со стороны Великобритании примирению с Россией способствовало вытеснение «викторианцев» (родившихся в 1830–1840-х гг.), которых тревожило русское проникновение в Среднюю Азию, «эдвардианцами» (родившимися в 1850–1860-х гг.), достигшими зрелости уже после бисмарковского объединения Германии и ее последующего усиления: Neilson, Britain and the Last Tsar, 48–50, 267–88.
505
McDonald, United Government, 103–11.
506
Некоторые вопросы, которые не удалось решить, например о Тибете, были оставлены в подвешенном состоянии: Churchill, Anglo-Russian Convention; Williams, “Great Britain and Russia,” 133–47; Остальцева. Англо-русское соглашение 1907 года.
507
Bernstein, Willy-Nicky Correspondence, 107–8.
508
McDonald, United Government, 77–81. Текст мертворожденного договора впоследствии был опубликован в «Известиях» (29.12.1917). См. также: Nekliudov, “Souvenirs diplomatiques”; Bompard, “Le traite de Bjoerkoe”; Fay, “The Kaiser’s Secret Negotiations”; Фейгина. Бьеркское соглашение; Витте. Воспоминания [1922]. Т. 2. С. 476–481; Iswolsky, Recollections of a Foreign Minister, 40–3; Астафьев. Русско-германские дипломатические отношения.
509
Богданович. Три последних самодержца [1924]. С. 461.